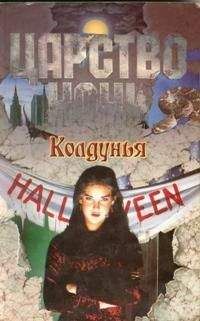Каста носителей власти в Китае (они называют себя носителями идейности), за исключением самой верхушки, имеет в целом весьма небольшие привилегии. Но тем страшнее главная их привилегия – право распоряжаться чужой жизнью. И у этой власти, помимо армии и карательного аппарата, есть и массовая опора – несметные толпы ослепленных фанатиков. Все это хорошо известно. Но назовите – какой они класс, эта фанатическая масса, составляющая основание пирамиды маоизма?
Китай – не случайность. И не малость: четверть человечества. Над этим стоит задуматься.
Да, это не фашизм. И не капитализм. Но и не социализм, хотя обложка цитатника Мао красная. Это отход от социализма в какую-то еще неизведанную, никем не предвиденную и не предсказанную общественную формацию. Чем кончится дело? Разве просто опрокинуть пирамиду со столь широким основанием и столь прочной кладкой? Никто не решается делать предсказаний, ибо они могут не сбыться или сбыться в самой неожиданной форме. Но один вывод из сопоставления вчерашнего дня с сегодняшним можно сделать уже сейчас: названия остаются, а содержание меняется.
Этим внутренним переменам при неизменных названиях в огромной, невиданной степени способствует государственная машина обработки человеческих умов, новейшая машина, которая умеет превращать живую идею, владеющую массами в каменный фетиш идеи, стоящей над массами. Так фетишизировано сейчас государство. Оно – превыше всего, и вне его нет ничего. А оно ведь всего только форма, содержание которой составляет подвижное, изменчивое, растущее общество. И когда форма окостеневает, содержанию некуда расти. Панцырь, надетый в ранней юности, не дает вздохнуть зрелому человеку. Тут сказывается основное свойство сталинизма, характеризующее его во всех областях, во всех проявлениях: главенство формы над содержанием, делающее их единство несбыточным.
Сталинизм – это главенство догмы над теорией, цитаты – над мыслью, количества продукции – над ее качеством, правдоподобия – над правдой, стопроцентной явки – над народоправием, уголовных статей – над нравственностью, проверок – над доверием. При сталинизме реальность подменяется парадностью, искренность – клятвами, образование – дипломом, самостоятельность мысли – единомыслием и самая личность человека – удостоверением личности.
Такая идейная школа может бороться с идейным противником только физически – с целью уничтожить. А в самом гуманном случае – перевоспитать за глухим лагерным забором, вдали от глаз людских, с помощью голода и обоих Самодуровых, сержанта и майора. Один будет всех нас строить, второй – стричь под одну гребенку. А если враг не сдается (идеологически), то его уничтожают (физически)! Мой следователь отбросил ненужное "если": "Всю твою семью надо вырвать с корнем!" С корнем – и делу конец.
Научный социализм обращен к разуму. Но убежденность в правоте его философии включает в себя и сострадание к людям, и печаль, и боль, и любовь. Любовь к правде, выстраданная человеком, придает его убеждениям высшую нравственную силу, при всей его физической безоружности. Сам Маркс, как человек, представлялся всем, кто его знал, необычайно цельной личностью, в которой ум и совесть были едины. Несчастье для него (я вспоминаю его нешуточные ответы на шутливую анкету дочерей) состояло в подчинении. Но разве может быть человек свободен от всякого подчинения? Вероятно, несчастье состоит в подчинении кому-то или чему-то глупому, подлому, нечестному, бессовестному. Несчастен человек, вынужденный выполнять приказ майора Самодурова: "Остричься всем, у кого волосы длиннее полсантиметра". Не такое уж горе остричься. Горе выполнять идиотский приказ.
Вероятно, ощущение несчастья возникло у меня еще в Артемовске, году в 26-м или немного позже. Читая письма рабкоров, я смутно почувствовал приход Самодурова. Он издает приказ остричь – правда, для начала только крылья гусям. Потом он вызывает милицию, когда у него что-то не ладится с рабочими. А вот он уже расставляет повсюду своих человечков и создает себе вотчину.
Правда, далеко не всякий, будучи подчинен Самодурову, чувствует себя несчастным. Для этого необходим известный уровень осознания своей личности. В течение двадцати лет с того майского дня, когда меня впервые арестовали за инакомыслие, я гораздо чаще забывал о своем несчастье, чем сознавал его. Работая в "Известиях", я восхищался умом и демократизмом Бухарина, но меня мало трогало, что этот незаурядный человек вынужден на каждом шагу подчиняться Молотову, который тогда надзирал над "Известиями". В редакции знали, что Бухарин называет Молотова "каменная задница". Все давила эта тяжкая задница. Но как мало я это понимал!
Медленно-медленно начал я понимать, в чем состоит мое несчастье. Кто сумеет сопережить со мной пережитое в столыпинском вагоне, когда увешанный значками начальник конвоя грозился не пустить нас в уборную за "разговорчики"?
За исключением нескольких комсомольских лет, я всегда должен был бы сознавать свое несчастье, и если этого не произошло, то только потому, что я внутренне принял Самодурова. Мне скажут: а где нет самодуровых? Верно – где их нет? Но есть разница в условиях их существования. Если ты можешь хоть слово сказать против них, то есть еще надежда, что оно родит эхо протеста. А если ты вынужден молчать – откуда быть эху?
Дело не в тех одиннадцати годах, которые я провел в прямом подчинении сержантам, наказывающим за разговорчики. Разве в остальные годы мог я поднять голос, чтобы рассказать людям об этих одиннадцати?
Достаточно, однако, не сознавать своего несчастья, чтобы быть счастливым. Так, например, было на душе у дяди Тома в его хижине.[102]
Сейчас вера в бога, предначертавшего каждому его судьбу, мало кого поддерживает. Веру в бога заменяет вера в некое высшее "так надо". Миллионы людей не представляют себе, что было и как было. Они знают только одно: Сталин спас Россию от Гитлера. Он ли – они не сомневаются, а что ценою двадцати миллионов жизней, так в их глазах это справедливая цена. А жизнь колхозников при Сталине, а выселение народов, а многомиллионные лагеря, а казни, превосходящие по размерам все злодеяния инквизиции за три столетия – так их же не казнили! Короткая историческая память – вот черта, роднящая их с дядей Томом. Он не знал, как его прадеда везли на невольничьем корабле из Африки. Его жалко, но презирать его, славного, доброго, но непросвещенного человека – не за что.
Другое дело – интеллигент, умеющий читать и понимать напечатанное, но не научившийся видеть, как плохо сходятся концы с концами в той истории и в той действительности, которая его окружает. Такой интеллигент вызывает не сочувствие, а, мягко выражаясь, удивление. Ибо невольно возникает вопрос: а не нарочно ли он так наивен? Ведь известно, что именно такая наивность обеспечивает спокойную жизнь. Растет образованность в нашей стране, и все больше становится этих людей, достойных удивления – не хочу употреблять более сильное слово. Это печально – чем дальше, тем печальнее.