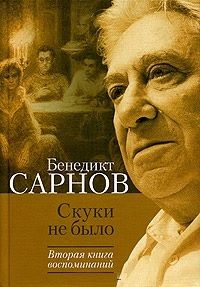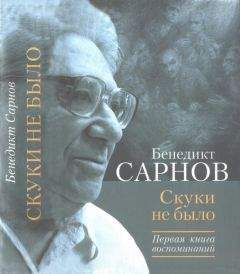— Эма! Тебе Чухрай дал слегка подзаработать, и я очень за тебя рад. Но ты все-таки должен понимать, что гордиться этой своей творческой продукцией тебе особенно нечего. В сущности, ты ведь принял участие в довольно-таки блядском мероприятии.
— То есть как? — обиделся он.
— А вот так, — сказал я. — Ты сообрази: откуда твой Чухрай со своей киногруппой приехал в город Париж? Явились, понимаешь, из фашистского государства к свободным людям и учат их высокой нравственности…
— А-а, — сказал Эмка. — Это конечно. Это я Чухраю и сам говорил. Я даже соответствующее название для этого фильма придумал: «Репортаж из жопы». И даже эпиграмму сочинил… Погоди… Вот!
И он прочел:
Мы о том, что вся Европа
Это — полное говно,
Репортаж ведем из жопы,
Где находимся давно.
Все это было в конце 60-х или даже в 70-х. А сейчас на дворе стоял 1996-й. И на посиделках у Эмки, когда Чухраю случалось заговорить, никто уже не замолкал почтительно. Все орали, перебивая друг друга и не стесняясь прибегать порой и к ненормативной лексике.
Еще в институтские времена была сочинена про Манделя эпиграмма:
Не ругался б Мандель матом,
Был бы Мандель дипломатом.
Дипломатом Мандель, как известно, не стал. Да и мы все тоже. Поэтому когда Чухрай объявил, что на предстоящих выборах собирается голосовать за генерала Лебедя, на моем лице отразилось нечто такое, что на вербальном уровне прозвучало бы как-нибудь так: «Ну, брат, такой глупости мы не ждали даже от тебя!»
Правильно угадав мою реакцию, Чухрай сказал:
— Я догадываюсь: вы сейчас скажете, что Лебедь это — полковник Скалозуб?
— Ну что вы, — вежливо возразил я. — Куда ему до Скалозуба! Лебедь — это тот фельдфебель, которого Скалозуб обещал дать нам в Вольтеры. Помните? «Он в три шеренги вас построит, а пикнете, так мигом успокоит!»
— Эх! — вздохнул Чухрай. — Вы, диссиденты, хотели разрушить советскую власть, а разрушили Россию.
Эмка, у которого было куда больше, чем у меня, оснований считать себя диссидентом, похоже, с этим высказыванием старшего друга и товарища был совершенно согласен.
Это Эмка! У которого я всю жизнь учился думать и понимать! Эмка, в стихах которого я всегда находил собственные мысли и чувства!
* * *
Кагебешник, который приходил ко мне домой (тот самый, о моей беседе с которым Слуцкий сказал: «Ох, и много же лишнего вы ему наговорили!»), сперва изобразил дело так, что явился ко мне из-за Эмки. «Что же это ваш друг, — сказал он, — все время лезет в политику. Поэт — так и пиши стихи. А он всё — открытые письма! То папе римскому, то Брежневу, то еще кому…»
Ну и работнички у них в конторе, подумал я. Знали бы свое дело получше, небось не удивлялись бы такой Эмкиной политизированности: он всю жизнь только и делал, что жил политикой, дышал ею.
Но это я подумал. А сказал другое:
— А вам-то что! Он ведь уже не ваш. Отрезанный ломоть.
— Нет, не скажите, — возразил он. — Нам важно знать, как там кто из бывших наших сограждан себя ведет. Вот поведением Виктора Платоновича, например, мы вполне довольны.
Хорошо зная Вику, я подумал: «Врет!»
— А что вы от меня-то хотите? — спросил я.
— Хотим, чтобы вы повлияли на своего друга, — сказал он, имея в виду все того же Эмку.
Мы с Эмкой переписывались. Как правило — не по почте. И «они», видимо, это знали. Какие-то наши «левые» письма, может быть, даже к ним попадали.
— Интересно, как я могу на него влиять? — сказал я. — Он старше меня. Я, например, не хотел, чтобы он уезжал, а он вот взял и уехал. Так что я и тут-то не мог на него влиять. А тем более — через океан…
— Командировочку дадим, — усмехнулся он.
Я сделал вид, что это шутка. (Впрочем, может быть, это и была шутка. И даже скорее всего. Во всяком случае, за предложение поехать ОТ НИХ в командировку к Эмке в Америку я не ухватился.)
Пошутив еще немного на эти темы, мой собеседник перешел к главному: к тому, ради чего, как мне показалось, он ко мне пришел: к Войновичу и Корнилову.
Порассуждав немного об их поведении, прямо спросил:
— А они уезжать не собираются?
Я ответил, что не знаю, не могу сказать. Насколько мне известно, нет, не собираются.
Как мне показалось, этот мой ответ его огорчил.
Вероятно, им хотелось выпихнуть из страны их обоих. Но Войнович был для них — что кость в горле, и на него было оказано более грубое и мощное давление. Кончилось, как известно, тем, что в один прекрасный день они просто объявили ему, что его конфликт с советским народом дошел до точки кипения, и если он не согласится уехать на Запад, поедет на Восток.
А от Корнилова постепенно отстали.
Ему, конечно, тоже приходилось несладко. Регулярно являлся участковый, требовал устроиться на работу, а то — объявят тунеядцем, как Бродского. Но дальше этого дело не шло. И у Корнилова постепенно создалось впечатление, что отъезд Войновича и его, Корнилова, «неотъезд» — было делом добровольного и сознательного выбора каждого.
Он даже стихотворение об этом написал:
Помнишь, блаженствовали в шалмане
Около церковки без креста?
Всякий, выпрашивая вниманья,
Нам о себе привирал спроста.
Только все чаще, склонясь над кружкой,
Стал ты гадать — кто свой, кто чужой.
Кто тут с испуганною подслушкой,
А не с распахнутою душой?..
Что ж, осторожничать был ты вправе,
Но, как пивко от сырой воды,
Неотделимы испуг от яви,
Воображение от беды.
…Я никому не слагаю стансы
И никого не виню ни в чем.
Ты взял уехал. Я взял остался.
Стало быть, разное пиво пьем.
Стало быть, баста. Навеки — порознь…
Правду скажу — ты меня потряс:
Вроде бы жизнь оборвал, как повесть,
И про чужое повел рассказ.
…В чистых пивных, где не льют у стенки,
Все монологи тебе ясны?
И на каком новомодном сленге
Слышишь угрозы и видишь сны?
Ну, а шалман уподоблен язве,
Рыбьею костью заплеван сплошь,
Полон алкашной брехни… и разве
Я объясню тебе, чем хорош…
По этому стихотворению даже выходило, что Войнович уехал, потому что испугался. Потому что в душе его прочно поселился страх, при котором человеку уже мнятся разные ужасы, которых на самом деле даже нету и в помине.
Хорошо зная Войновича и все обстоятельства его отъезда, я точно знал, что портрет этот лжив. Но даже больше, чем эта конкретная ложь, ушибло меня в этом стихотворении моего старого друга (с Корниловым я познакомился и подружился раньше, чем с Войновичем) это неожиданное (для меня, во всяком случае) восхваление «самоедской» любви к отечеству.
Слово это я заимствовал у Чаадаева.
Есть, — говорил он, — разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова…
Этой презираемой Чаадаевым «самоедской» любовью к Отечеству у нас грешили многие. Розанов («Ах вы, деточки, поросяточки! Все вы — деточки одной Свиньи Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует Свинья Матушка!..»), Мережковский («Мудры вы, сильны, честны, славны. Все у вас есть. А Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов — и всегда погибаем. А Христос Батюшка с нами и есть и будет во веки веков. Им, Светом, спасаемся!»), Блок («Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!..»).
И вот теперь к этой «самоедской» традиции припал, присоединился мой друг Володя Корнилов.
Сознавать это мне было особенно тяжело еще и потому, что примерно в этом же духе о новых наших эмигрантах высказывались тогда (публично) разные откровенные мерзавцы.
Вот, например, что говорил в это же самое время (на вечере памяти Пушкина) некий украинский «письменник» Борис Олейник:
…Бытует расхожая формула: мол, поэт должен быть чуть ли не в постоянной оппозиции. Если за таковую принять мелкие обиды некоторых ординарных стихотворцев на то, что их не признают за Пушкиных, то — да, они были, есть и пребудут в постоянной оппозиции ко всему талантливому. Что же касается Пушкина, то он просто не мог быть в оппозиции, поскольку за ним стоял народ.
Высказав эту, хоть и весьма мутную, но все же достаточно понятную лживую сентенцию, оратор далее прямо переходил к современным нашим — оппозиционно настроенным — писателям и поэтам: