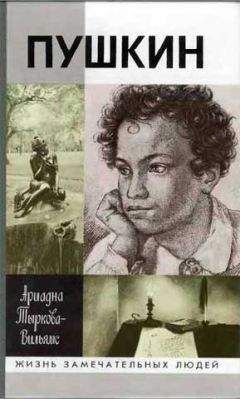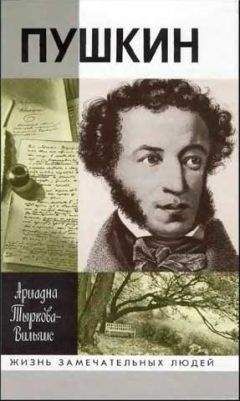Среди многочисленных ее портретов есть один, где художник схватил томную нежность взгляда и улыбку тихую, с легким оттенком грусти, но все же лукавую, «призывающую поцелуи». По моде 20-х годов букли спускаются над самыми висками. Над высоким, красивым, умным лбом белеет огромная жемчужина; головка чуть склонилась к плечу. Обнаженную шею охватывает тоже жемчужное ожерелье. Художник передал ее красоту, и «неукоснительное щегольство», и духовную выразительность. Все это делает портрет таким близким, так понятно становится, что в эту женщину можно было влюбиться без памяти. А разлюбить было нелегко.
Как и когда началось сближение между Пушкиным и графиней, теперь не разгадаешь. Восстановить этот роман в жизни поэта можно, только подбирая догадки, намеки, немногие факты, а главное, разбираясь в его стихах, таких ясных и лукавых, таких искренних и неуловимых. Возможно, что вначале Пушкин произвел на Элизу Воронцову такое же неприятное впечатление, какое он произвел на княгиню Веру Вяземскую, когда она, летом 1824 года впервые с ним познакомилась в Одессе. Она писала мужу: «Я тебе ничего не могу сказать хорошего о племяннике Василия Львовича… Это мозг совершенно беспорядочный. Во всем виноват он сам…» А через неделю та же княгиня Вера уже писала: «Пушкин менее дурен, чем кажется…» Еще через три недели у нее уже установилась с Пушкиным настоящая amitié amoureuse[70]. Это не единственный случай. Пушкин знал тайну власти над женским сердцем.
Мои слова, мои напевы
Коварной силой иногда
Смирять умели в сердце девы
Волненье страха и стыда…
Это как раз в 1824 году и писано.
Ревнивая, бешеная страсть поэта к «негоциантке молодой», о которой, конечно, знала вся маленькая Одесса, могла поддразнить женственное любопытство и мягкое кокетство Воронцовой. Нравиться она привыкла и хотела. У нее тоже был свой хор поклонников, почтительных, сдержанных, но влюбленных. И вдруг поэт, которого прославили уже на всю Россию, у ног другой.
Или просто ее нежная, светлая душа затосковала, рванулась навстречу счастью, которое даже на долю самых красивых очаровательниц выпадает так редко, – счастью зажечь любовь в гениальном поэте, хоть на мгновенье отразиться в его творческой душе, чтобы потом из поколения в поколение передавалась молва о женщине, обворожившей Пушкина.
«Предания той эпохи упоминают еще о третьей женщине, превосходившей всех других по власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта, – рассказывает Анненков. – Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головки, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам от Одесского периода жизни». Эту головку Пушкин рисовал чуть наклоненной, как изображена Воронцова на портрете. И в стихах у Пушкина «Ангел нежный главой поникшею сиял». Принято думать, что поникшая голова выражает печаль, томность, усталость. Пушкин озарил ее сиянием.
Анненков писал, когда графиня Элиза была еще жива и биограф не имел права говорить яснее об этой любви, тайну которой ревниво хранил не только Пушкин, но, что гораздо удивительнее, его друзья. Недосказанное, но совершенно ясное указание Анненкова на любовь Пушкина к Воронцовой подтверждается двумя сведениями из семьи Вяземского. Осенью 1838 года князь П. А. Вяземский был в Англии и видел сестру графа М. С. Воронцова, в замужестве лэди Пэмброк. Вернувшись от нее, он записал в записной книжке, сохранившей для нас столько важного и яркого бытового и исторического материала: «Сегодня Hurbert, сын lady Pemhrock-Воронцовой, пел «Талисман», вывезенный сюда и на английские буквы переложенный. Он и не знал, что поет про волшебницу тетку, которую на днях сюда ожидают».
Волшебница в «Талисмане» не холодная, недоступная красавица. Это опечаленная разлукой любовница.
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман,
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан…»
(1827)
Вяземский мог узнать об этой связи от своей жены, на глазах которой доигрывался роман. Вяземские честно сохранили тайну поэта. Даже в литературных кругах ходили о ней только смутные слухи. Уже после смерти Пушкина П. А. Плетнев, казалось, подробно знавший жизнь своего гениального друга, в письме к Я. К. Гроту, который собирал материалы о Пушкине, писал: «Княгиня Вяземская рассказала мне некоторые подробности о пребывании Пушкина в Одессе и его сношениях с женой нынешнего графа Воронцова, что я только подозревал» (1846). Несмотря на настойчивые письменные расспросы Грота, Плетнев в письмах своих больше ни слова не обронил.
Но повесть этой любви можно и должно искать в стихах Пушкина. В них отблеск ее неотразимой улыбки. Графиня Элиза заглянула, наклонилась над таинственным источником поэзии, прозрачным и бездонным, и, заколдованная, отразилась в нем.
Любовь к Воронцовой вставлена у Пушкина в рамку совершенно определенного, повторяющегося пейзажа. Среди черновиков письма Татьяны, писанного весной 1824 года, вероятно, в мае, – есть недоделанный, перечеркнутый набросок, где «приют любви» описан особенно ясно, с четкими подробностями: «Пещера дикая видна.. Приют любви, он вечно полн прохлады сумрачной и влажной… Там никогда стесненных волн не умолкает шум протяжный…»
И другой, еще более перечеркнутый отрывок: «Есть у моря, под скалой, уединенная пещера, обитель неги, в летний зной она прохладной темнотой…»
Наконец, в той же тетради, но, вероятно, позже, может быть, уже в Михайловском записано:
(у брега вод)
В пещере тайной, в день гоненья
Читал я сладостный Коран.
Внезапно Ангел Утешенья,
(тайный)
Влетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила…
Слова святые начертила
На нем безвестная рука…
У Пушкина после Одессы появился перстень с еврейской надписью. Сестра поэта и его друзья считали, что перстень подарен ему графиней Воронцовой. Он это подтвердил:
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы…
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман…
В «Разговоре книгопродавца с поэтом», где Пушкин с такой художественной легкостью переходит от тончайшего анализа психологии творчества к яркой любовной лирике, он опять возвращается к той же ассоциации, к тому же неотступному пейзажу: морская пещера, где шумят и бьются волны.
Там, там, где тень, где шум чудесный,
Где льются вечные струи…
Но для печати он переделал «шум чудесный» в «лист чудесный». Это едва ли не единственный у него случай стиха почти бессмысленного.