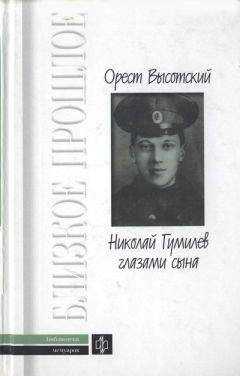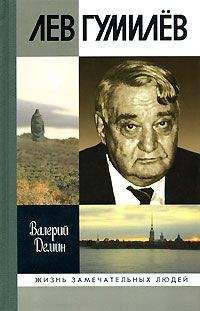Из поэтов Италии Гумилев знал лучше других, кажется, Габриеля ДʼАннунцио, и не потому, что изучал его поэзию, но потому, что пленен был его ролью во время войны. Ему Гумилев посвятил оду:
И в дни прекраснейшей войны,
Которой кланяюсь я земно,
К которой завистью полны
И Александр, и Агамемнон…
Так в этой оде Гумилев говорит о войне.
В стихотворении «Память», которое служит нам для иллюстрации всей биографии поэта, есть такие строчки:
Променял постылую свободу
На веселый долгожданный бой.
Слышите: свобода постылая, бой — веселый и долгожданный…
Мы уже упоминали о замечательном стихотворении «Пятистопные ямбы», где поэт говорил о разрыве с Ахматовой. Теперь эта вещь, писавшаяся в общем в течение трех лет, приобретает новое значение, озаряясь пламенем войны. Как бывает только перед угрозой смерти, поэт, как бы при свете молнии, видит всю свою прошлую жизнь, смиренно признает свои ошибки и бросается очертя голову в водоворот:
И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: «Буди, буди!»
Но перед тем как стать солдатом, поэт вспоминает о той, с кем жизнь ему не удалась, о той, которая от него
…ушла в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятье.
Отметим мимоходом параллелизм этого ухода и другого, воспетого Блоком:
Ты в синий плащ покорно завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла…
Военные стихи Гумилева так же вдохновенны, как африканские. По глубине они даже лучше и уж, наверно, значительнее{143}. Иначе и не могло быть для поэта, сказавшего:
Победа, слава, подвиг, бледные
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
Военные призывы дʼАннунцио звучат чуть-чуть театрально рядом с военными стихами его русского почитателя. Среди поэтов, принявших войну с религиозной радостью, лишь один, Шарль Пеги, кажется мне по высоте и благородству чувства равным Гумилеву. Сходство их строчек местами поразительно.
Убитый в 1914 году, Пеги не мог знать написанных в том же году военных стихов Гумилева, одно из которых начинается словами:
Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть.
Heureux ceux qui sont morts pour la terre chamelle,
Mais pourvu que ce fut dans une juste guerre.
(Prière pour nous autres charnels), —
как бы откликается Пеги на двустишие русского поэта. И Пеги продолжает:
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
Couchés dessus le sol à la face de Dieu.
A у Гумилева:
Лишь под пулями в рвах спокойных
Видишь знамя Господне, твердь.
Не тождественны ли почти эти строчки двух братьев по оружию, разделенных тысячами километров? Перед лицом высокого долга и смерти два верующих энтузиаста произнесли, как молитву, приведенные выше слова. Для знающих биографию Пеги нет ничего удивительного в его отношении к войне. Но ведь и Гумилев уже в юношеских «Жемчугах» писал:
Несравненное право
Самому выбирать себе смерть.
В 1914 году выбор и сделан: смерть на войне. Но Гумилеву назначено было другое…
Во время войны поэт-солдат не изменил своему главному призванию. Наоборот. В 1916 году написана лучшая из его больших вещей — драма в стихах «Гондла». Я лишь отчасти согласен с высокой оценкой «Отравленной туники», напечатанной в интереснейшей книге «Неизданный Гумилев». Глеб Струве эту драму, по-моему, переоценивает. Наоборот, отрывок прозы, напечатанный там же и тоже впервые{144}, мне кажется истинной находкой для всех, кто любит Гумилева, и может служить подтверждением того, что я пытаюсь установить дальше в связи с анализом стихов Гумилева, посвященных России…
«Отравленная туника», подобно другой драме в стихах «Дитя Аллаха», не лишена ни прелести, ни значительных художественных достоинств, но в обеих вещах есть тень гумилизма, хотя бы в чуть-чуть хвастливом превозношении двух поэтов-героев, уж как-то чересчур неотразимых для всех женщин… Гондла же горбун, несчастный в любви, хотя именно он и есть настоящий герой.
Принося себя в жертву, чтобы обратить в христианство грубых исландцев, волков, он, высмеянный, опозоренный, поруганный в любви к невесте, которая и сама над ним издевается, поражает нас, как стон, как упрек, и вместе восхищает, как подлинный избранник свободы.
Вещь глубоко биографична, на что я уже указывал, говоря о детстве поэта. Некрасивый Гумилев нашел в цикле кельтских легенд образ для своего долгого затаенного страдания: горбун, но дивный певец, верующий и добрый, но таким ли ощущал себя в самых тайных тайниках души герой-поэт, гордый, почти заносчивый, но только с виду и только с неравными.
Больше чем где-нибудь Гумилев в этой вещи подобен Лермонтову, которому он вообще ближе, чем к кому-либо из русских поэтов.
Слияние поэта с его персонажем — явление довольно распространенное. Примеров много и в русской литературе, и в мировой. Среди современников Гумилева укажем лишь Блока с его драмой «Роза и крест». Обе вещи в чем-то перекликаются. В обеих стихи превосходны. «Гондла», кстати, написан тем же энергичным анапестом, который так подходил к африканским стихам Гумилева…
Было горе, будет горе,
Горю нет конца.
Да хранит святой Егорий
Твоего отца, —
пишет Ахматова в стихах, посвященных сыну. Отец, Гумилев, верит в покровительство, о котором Ахматова просит:
Но святой Георгий тронул дважды
Пулями нетронутую грудь…
Награжденный двумя Георгиевскими крестами, в феврале 1917 года он в Петербурге. К революции он холоден. Спешит уехать. Его отправляют на Салоникский фронт, куда он не доехал.
Лондон. Париж. Здесь он пишет стихи в альбом девушке, в которую влюблен. Стихов не мало, уровень их не очень высок.
Вот и монография готова:
Фолиант почтенной толщины
О любви несчастной Гумилева
В год четвертый мировой войны.
Но монографии этой, наверно, никто не напишет. Петраркизм парижских этих стихов, собранных позднее в книге «К Синей звезде», делает их условно-патетическими. Гумилев знал и любил провансальских трубадуров, но до уровня воспеваемого им мимоходом Жофре Рюделя в своем парижском цикле он не поднимается. Зато как только он отрезвляется от своей страсти, пишет строчки воистину гумилевские, то есть и вдохновенные, и нелживые: