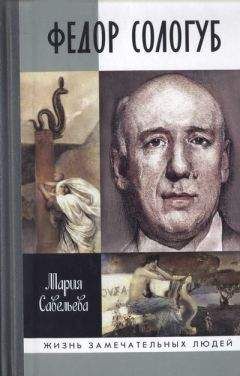Поздний вечер. Тесный закоулок, — детская, заброшенная в самый дальний край богато ведущегося дома, подальше от своих и чужих глаз. Освещение скудно и бледно, обстановка почти нищенская: старая, неуклюжая мебель, с надломленными спинками, шатающимися ножками, порванною обивкою, пестрые дешевенькие и старенькие занавесочки на двух окнах, шкаф чуть ли не из барочного леса, детские деревянные кроватки и тут же где-нибудь на лежанке грязное, но теплое логовище дряхлой няньки. Одни только образа хороши в этой комнате: старинные, тяжелые, в светлых окладах; пахнет пылью и еще чем-то нехорошим, — детским бельем, старухиным потом, — одним словом, детскою пахнет, да еще лампадное масло разливает свои особые запахи. Все мрачно, неприветливо, неуютно; игрушки, поломанные и облезлые, валяются на полу. В кроватках под ватными рваными одеяльцами жмутся дети; глазки широко раскрыты и выражают жгучее любопытство, тоску неизведанного, таинственного, страх чего-то внешнего, но близкого, грозящего… Они слушают нянькину сказку. Старуха с морщинистым желтым лицом говорит, шамкая, и вяжет свой чулок; концы повязанного на голове пестрого платка торчат вверх, и тени их странно колеблются на стене от неровных движений трясущейся головы. Дети пугливо посматривают на тень старухи: эта тень такая причудливая, и все на ней так странно и страшно: нос длинный, подбородок острый, ушки на макушке, и руки странно шевелятся. Жутко детворе, а в детский мозг врезывается нелепая чепуха о сером волке, устроителе всех дел и делишек, всемогущем волшебнике, оказывающем протекцию смирному дурачку, и об Иванушке-дурачке, парне смирном-то смирном, да тоже не промах, — себе на уме малый. Кому не знакома эта дикая картинка? Кто не проливал над нею слез умиления? Кто не чувствовал над собою тлетворного влияния доморощенной морали и эстетики старухиных рассказов?
А сколько глупых выходок и словечек со стороны взрослых наслушается ребенок!
Смотрит кто-нибудь на малютку немного дольше обыкновенного, — мать волнуется и говорит:
— Иван Иванович все смотрит на Мишеньку, того и гляди, сглазит.
Малютка побежит, — родители восклицают:
— Ушибешься!
Малютка упал и ушибся, — а маменька и папенька ахают и охают и, бледнея с перепугу, ругают прислугу и друг друга за недосмотр:
— Сохрани Бог, дитя могло бы до смерти убиться или навек калекой остаться.
Впечатлительный мозг ребенка хранит эти страхи взрослых, и настроенность бояться становится привычною.
А тут еще тетя придет, другая:
— Ах, зачем вы пускаете дитя на холод!
— Ах, отчего у малышки шишка на лбу!
— Ах, бедный ребенок, как он ушибся!
— Ах, противная няня, не смотрит за девочкой (или мальчиком).
А противная няня (подлинно противная и почти всегда дура) тоже пугает ребенка:
— Не ходи туда, там бука сидит, съест.
— Не делай того, трубочист посадит в мешок.
— Не плачь, волк съест.
Со всех сторон на малютку так и сыплются страхи, один чудовищнее другого. А малютка знает по опыту, что его не только пугают, что страшное есть. Он бы и на слово, конечно, поверил, но все-таки ему показывают страшное в натуре: отец ругается не своим голосом, мать истерически вопит, двери гремят, посуда летит со стола; а то — баталия с прислугою, — и обиженная горничная поднимает гвалт: «К мировому!» Ужасное слово, которого трепещут взрослые, которым обороняются от сильных! На улицах — лошади, которые разгуливают на тротуарах, пока извозчики спят на козлах, пьяные люди с непонятною бранью, бешеные собаки с намордником в зубах, и сумасшедшие конки…
Встарь все необычайные страхи считались проявлением особой силы, и от этой силы получала смысл своего бытия особая порода существ, некоторое сословие, строго обособленное почти до степени касты. Была нечистая сила, и был класс людей, кормившихся около этой силы, как теперь инженеры кормятся около пара и электричества; это были вещие люди всех наименований: колдуны, колдуньи, ведьмы, знахари, знахарки… С успехами просвещения, по-видимому, все это сдано в архив. Увы! только по-видимому. В сущности, в умах наших все остается почти по-прежнему: та же вера в какую-то таинственную силу, очень могущественную в жизни, то же преклонение пред людьми, владеющими уменьем справляться с этою силою. Только названия другие даются: протекция, мода, успех, случай, «так принято», «есть-пить надо», «одеться-обуться» — вот имена могущественнейших из современных демонов; карьерист, модный доктор, помпадур, и много других — имена современных колдунов. А в простом народе даже и маски такой нет; черт так и называется чертом, колдун — колдуном. В отношении суеверий культурный слой перещеголял простых мужиков и баб, так как суеверия его обширнее и сложнее. У мужика нечистая сила представляется ярко обособленною в образе некоторых пакостников и пакостниц, имеющих вид человекоподобный с примесью некоторых диковинных странностей: рога, копыта, шерсть на теле, необычные размеры: или слишком большие, или слишком малые, — необычайное местожительство: омут, баня, лес и т. д. Эти пакостники всюду шныряют, суют свой поганый хвост и в кринку с молоком, и в разинутый для зевка рот, и во всякое вообще отверстие, если его своевременно не заградить крестным знамением; всячески пакостят они человеку, — такое уж их назначение, — и не будь известных признаков — примет, извлеченных многовековым опытом из постоянного совместного житья с этою поганью, крещеному человеку пришлось бы плохо. Но приметы спасают, указывая вовремя на грозящую от нечисти опасность, как маяки у скалистого и грозного для мореходцев берега. Не столь просто и бесхитростно суеверие образованного класса нашего общества. Мы имеем, как указано выше, стихийных бесов, бесплотных демонов, невидимо действующих и необычайно могущественных. Но у нас есть и другой класс чертей, облеченных плотью и кровью, тех чертей, к которым подчас очень идет остроумная кличка «бедный черт» и не менее остроумное замечание народа о том, что «беден бес, который хлеба не ест». Это — те существа, про которых мы частенько восклицаем с полным убеждением в справедливости наших слов: «Разве это люди! Это — черти какие-то!» «Черт проклятый!» — титул, почти официально присвоенный этому классу существ, имеющих несчастие быть более похожими на нас, чем на обезьян, и на обезьян более, чем на остальных животных, и носит не ту одежду, как мы, занимается не нашим бездельничаньем, посещает не наши клубы и другие увеселения и говорит наречием, в значительной степени напоминающим наш язык. «Черт проклятый» наших дней, существо легендарно-страшное, дикое, которого надо избегать и которого надо обуздывать, — это мужик почти для всей интеллигенции, особенно для изящных и неизящных барынь и барышень, для многих — жид, или немец, поселившийся в России, или чухна, довольный своею автономией, или нигилист, социалист и всякий другой неблагонамеренный ист, включая сюда, впрочем, и вполне благонамеренного (уже по своему почти постоянно пьяному состоянию), трубочист, или, наконец, просто даже хам.