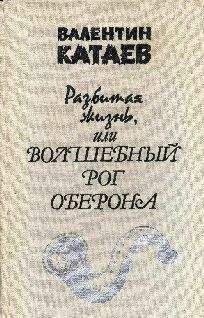Хорошо помню одну нашу игру, которая называлась «делать Боборыкина». Мы слышали, как взрослые в гостиной, споря о современной литературе, довольно часто произносили это смешное слово «Боборыкин».
Мы с Сашей понятия не имели, что это фамилия известного в то время писателя Боборыкина. Слово «Боборыкин» в силу своей фонетики имело для нас значение звука опрокинутой гнутой венской качалки, стоявшей в нашей гостиной рядом с фикусом.
На этой качалке любил сидеть, покачиваясь, папа и читать книгу или газету. Для взрослых качалка была частью обстановки. Для нас же с Сашей качалка с ее желтым плетеным сиденьем и такой же спинкой, с ее выгнутыми ручками, с ее полозьями, на которых она так легко покачивалась, была в одно и то же время и качелями, и частью какой-то упругой деревянной машины, и лодкой, и даже беседкой, если ее перевернуть вверх полозьями.
Мы любили опрокидывать качалку потертыми полозьями кверху, причем, стукаясь об пол своими упругими буковыми ручками, она несколько раз подпрыгивала, издавая звуки «бо-бо-бо», вследствие чего мы и назвали нашу игру с качалкой «боборыкин».
Игра «боборыкин» заключалась в том, что опрокинутую качалку мы покрывали поверх полозьев ковриком, так что между сиденьем и ковриком образовывался таинственный лаз, через который надо было проползти на животе в полутьме, чихая от пыли, сыпавшейся на нас с ковровой дорожки.
Обычно мы пролезали таким образом один за другим, хохоча и толкаясь, выбравшись на свет божий, катились кубарем по полу, громко крича в каком-то непонятном, неистовом восторге:
— Боборыкин! Боборыкин!
…теперь давно уже и милого Саши нет на свете, и качалка давным-давно исчезла вместе с прочей мебелью моего детства, но до сих пор при виде подобной качалки что-то восклицает в таинственных глубинах моего сознания:
— Боборыкин! Боборыкин!
Неудачное катанье на осле.
Каждое утро, раздвинув желтую бархатную штору и подняв решетчатые жалюзи, мы видели слева теплое октябрьское солнце, только что взошедшее над Средиземным морем. Оно поднялось из моря где-то против итальянской границы и теперь, начав свой дневной обход, висело в мутноватом, золотистом, но совершенно безоблачном небе рядом с растрепанными макушками нескольких старых африканских пальм, росших на Английском променаде, — и море под солнцем сияло металлически-розовым столбом от горизонта до набережной, еще пустынной в этот ранний час.
Обойдя небосвод, но не выходя из поля зрения, солнце садилось справа от нас, если стать лицом к морю, далеко за песчаной косой аэродрома, где время от времени круто поднимались и полого садились пассажирские самолеты с уже освещенными иллюминаторами.
Угрюмо-красное солнце опускалось за мыс Антиб, за его черный силуэт, всегда вызывавший в моем воображении яхту «Бель ами» Мопассана и его самого, усатого, в капитанской фуражке, сумрачно наблюдающего за грядой Приморских Альп, за багровым небом над ежеминутно меняющей свою окраску снежной вершиной Эстерель, откуда обычно приходила на Лазурный берег зима.
Мне запомнился один из таких счастливых, безмятежных дней. Это было совсем недавно, несколько лет назад.
С утра до вечера, пока солнце совершало свой путь от Вентимильи до мыса Антиб, мы ходили по террасам, на которых расположена Ницца, снизу вверх, по ее тенистым, горизонтально расположенным улицам и по ее другим, крутым вертикальным улицам, начав свою прогулку от набережной с ее роскошными, хотя и несколько старомодными отелями, пальмами, магнолиями, цветными зонтиками открытых кафе — вплоть до самого верха, до той части города, где были во множестве выстроены роскошные белоснежные санатории, где среди горного воздуха, среди вечнозеленых растений, фонтанов, розариумов, безукоризненно чистых и ярких газонов за чугунными оградами незаметно и благопристойно умирали богачи, для спокойствия которых туберкулезные санатории назывались просто отелями, ничем не выдавая своего зловещего назначения.
Мы полюбовались древнеримскими развалинами, посетили музеи Матисса, позавтракали на открытой террасе маленького студенческого ресторанчика, а день между тем все еще продолжался и продолжался — нежный золотистый день поздней средиземноморской осени в курортном городе, уже заметно пустовавшем, так как летний сезон кончился, а зимний еще не начался и все подешевело.
Под ногами иногда сухо шелестели опавшие листья диких каштанов.
Мы взобрались по нескольким довольно крутым лестницам на кладбище и не без труда разыскали в этом белом, аккуратно подметенном, чистеньком городке мертвых бронзовый памятник Герцену, приземистая, коренастая фигура которого, его русская борода и длинные волосы, лежащие сзади на воротнике, так не подходили к беломраморным надгробьям с иностранными надписями.
…о, как много произошло событий с того времени, когда тело Герцена привезли из Парижа и похоронили здесь, под высоким черным кипарисом с маленькими коричневыми шишечками… Кипариса этого уже давно нет. На его месте теперь растет другой кипарис, гораздо моложе и зеленее того, первого кипариса. Герцен не дожил до Парижской коммуны, до Ленина, до Октябрьской революции… Мало кто знает в Ницце о Герцене. Мы долго искали его могилу, и если бы не рабочий, поливавший из пластикового тонкого ярко-салатного шланга кусты кладбищенской герани, может быть, мы ее так бы и не нашли. Но рабочий в широких штанах и летней каскетке показал нам дорогу к памятнику и прибавил:
— Я знаю, это был ваш великий революционер, ненавидевший самодержавие и желавший России свободы и независимости. Каждый русский должен гордиться своим Герценом.
Мы постояли в глубокой задумчивости перед бронзовым Герценом и медленно спустились вниз, в итальянскую, нищую часть Ниццы, представляющую разительный контраст с роскошной Ниццей Английского променада, казино, отеля Негреско, приморского сквера, усаженного какими-то диковинными деревьями вроде зонтичных пиний, столетних велингтоний и выложенного цветными фаянсовыми плитками, как громадная ванная комната…
Оркестр только что кончил играть Вагнера, музыканты в морской форме расходились со своими инструментами в футлярах, и в музыкальном открытом павильоне остались только пустые пюпитры, все вместе составлявшие как бы чертеж или даже скелет только что оконченной увертюры — всех ее только что отзвучавших музыкальных фраз.
Красное солнце уже заканчивало свой путь и готово было кануть за мыс Антиб, золотя Английский променад, по которому, мне представлялось, некогда шел своей широкой походкой Маяковский — тень Маяковского, — время от времени вынимая из кармана штанов маленькую записную книжку и вписывая в нее, на минуту остановившись и поставив ногу в толстом башмаке на обочину газона, какие-нибудь строчки вроде: