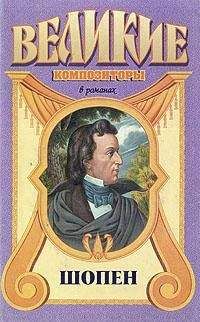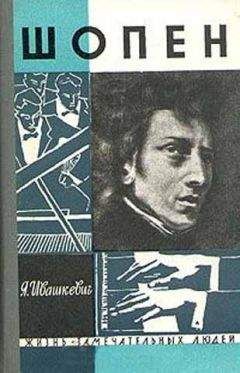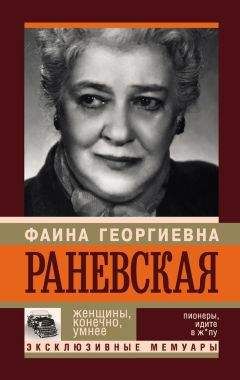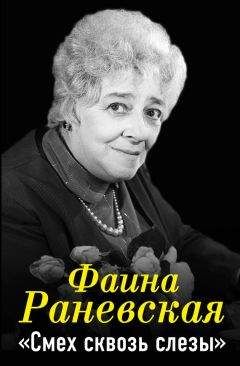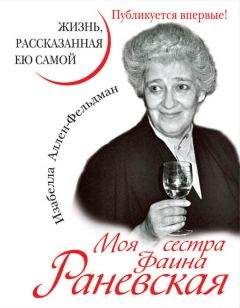Другая его отрада была в общении с Делакруа, который часто приходил к нему. Если бы не боязнь утомить больного, художник проводил бы у него долгие часы. Он не встречал людей, подобных Шопену, и говорил, что приходит к нему учиться.
С Делакруа можно было говорить обо всем, даже об Авроре. Шопен показал ему письмо, написанное ею накануне окончательного разрыва. Делакруа читал его, потрясенный. Аврора дала волю своему негодованию, она была в бешенстве оттого, что Шопен предал ее, стал на сторону ее дочери, ее злейшего врага. Она не выбирала выражений, была груба, криклива. Делакруа так и видел перед собой искаженное лицо, покрытое красными пятнами.
Но самое ужасное было не в этом. Буйная, губительная слепота страстей могла быть оправдана. Но, наряду с пылкими словами несправедливого гнева, наряду с бранью, там попадались длинные, холодные рассуждения и напыщенные фразы, как будто переписанные откуда-то из популярной книги. Она была возмущена, это чувствовалось. Но она была возмущена давно – не только Шопеном и собой: за свою непоследовательность, несовершенство, за то, что давно тяготилась им, за то, что ее чувство оказалось таким же некрепким, нестойким, как у многих других людей, которых она осуждала. И одинаково упрекала себя за то, что хочет расстаться с ним, и за то, что не может решиться, медлит. И разжигала в себе негодование, чтобы оправдать разрыв. Но и этого ей показалось мало: она вооружилась рассуждениями, доказательствами, цитатами из философских сочинений. Она должна была остаться правой, как Лукреция, он – виновным, как принц Кароль.
Делакруа не ожидал этого. Он думал, что при этом разрыве она сохранила благородство, может быть, даже почувствовала укоры совести за «Лукрецию»…
– И зачем это, расставаясь, надо непременно доказывать свою правоту? – сказал он. – К чему еще и эта жестокость?
– Совсем не жестокость, – с усилием отвечал Шопен. – Если человек в таких случаях признает себя виноватым, смягчает удар, значит жалеет другого, а это вдвойне оскорбительно! Пусть остается правым.
– А если искренне признает свою вину?
– Тогда еще хуже. Признает – и все-таки уходит! Как же должен чувствовать себя другой?
Делакруа старался переменить разговор.
В этом общении двух исключительных натур была какая-то просветленная красота, тем более редкая, что здесь больной, обреченный композитор являлся опорой для художника, полного сил. Делакруа знал, что его посещения не утомляют Шопена – одиночество было бы утомительнее для больного. Правда, присутствие посторонних людей могло усилить чувство одиночества. Но Делакруа не был посторонним для Шопена – это он сознавал.
Часто он приходил к Шопену измученный неудачным сеансом, бесплодным спором или собственными противоречивыми мыслями – и какую ясность, какой покой вносил Шопен в его встревоженный ум!
Они говорили об искусстве. Но за этими разговорами и даже за разбором отдельных деталей картины или музыкального произведения вставала сама жизнь, такие стороны жизни, которых в другое время ни тот, ни другой не решались бы касаться. Делакруа и теперь не был так смел. Но у Шопена появилось бесстрашие, бесстрашие сильного человека перед лицом смерти.
Делакруа принес ему однажды этюд – темные листья и тусклое солнце. Он задумал затемненный пейзаж. – Так человек видит природу, когда у него горе, – объяснил он. Будущая картина уже имела название: «Ненужная весна».
Может быть, нельзя было показывать это Шопену? Но Шопен сказал:
– Каждый видит по-своему. Моя сестра умерла в яркий весенний день. Кажется, никогда еще в Варшаве не было такой удивительной весны. И никогда прежде я не ощущал это с такой силой. Я чувствовал всю прелесть весны и страдал именно от этого контраста…
«А теперь? – со страхом думал Делакруа. – Может быть, он и теперь чувствует всю прелесть жизни? И всю ее недоступность?» Шопен еще играл – тихо, недолго, – но Делакруа находил в этой музыке, как и в словах Шопена, ответ на свои смятенные, невысказанные вопросы.
Шопен играл свой «Полонез-фантазию» в несколько приемов I– не хватило сил сыграть весь целиком.
Никто еще не знал этого последнего создания Шопена, и критики не успели объявить его «распадом музыкальной формы», как это сделали впоследствии. Но Делакруа любил «Полонез-фантазию» (которую он называл «пятой балладой») и считал его самым глубоким и мудрым произведением Шопена. Особенно любил он фа-минорный эпизод, проходящий в середине, до боли прекрасный, но, к сожалению, слишком короткий, Это было прощание с жизнью, и оттого Делакруа не просил Шопена играть этот эпизод – боялся выдать при нем свое волнение. Но Шопен играл его сам. И выходило так, что музыкант утешал художника…
По вечерам Шопен выходил на балкон. Он не обозревал Париж. Он просто боялся бессонницы.
В эти часы он был бессилен против мрачных мыслей. Они пользовались образовавшейся пустотой, незаполненностью времени. Он был отдан им во власть. Они мучили его, потому что он не мог облечь их в музыку. Эта музыка была бы ужасна.
«Мое искусство – где оно? А мое сердце – на что я его растратил?»
Сердце – растратил. Но искусство? Его мучила мысль, что никто в мире не узнает и не поймет его, что его ожидает посмертная участь Баха.
Сердце-растратил. Но так бывает со всеми, кто живет горячо, стремительно. А искусство? Для кого оно? Что будет с его музыкой через десять – пятнадцать лет? Ее будут играть в салонах, не очень вникая в смысл, а порой и бессовестно искажая, как это уже делают пианисты, «плетя кружева», «рассыпаясь бисером», растягивая фразы, подчеркивая болезненность, надрыв, слабость, изнеженность. Один из таких виртуозов, сказал однажды, что Шопен «сам себя не понимает» и неверно играет свои собственные сочинения. И многие пианисты, которые называют себя почитателями Шопена, выработали в себе особый, «шопеновский» стиль, в котором нежность, слабость, капризная изысканность и мимолетность настроений уже становились обязательными. В этом отчасти была и вина Авроры, немалая ее вина! Это предугадывал еще Ясь Матушиньский. Жорж Санд так мною рас сказывала о Шопене друзьям и знакомым (а кому же знать его, как не ей!), так много писала об его изменчивых настроениях, внимании к мелочам, так часто описывала его «райскую музыку», его занятия и игру на фортепиано, полную «фантастической прелести» и «неуловимой грации», что ее крылатую фразу: «Ангел с лицом прекрасной женщины» – все считали основ ной характеристикой Шопена и эпиграфом ко всей его жизни.
«Женственный ангел», «малютка Шопинетта», гениальный, но слабый певец изменчивого, мимолетного… Пианисты, поверившие в это, подолгу застывали на левой педали, злоупотребляли свободой темпов, некстати земедляли мелодию и некстати «вознаграждали» себя ускорениями. Разбивали аккорды, левая рука у них не совпадала с правой, и это тоже считалось почему-то шопеновским стилем!