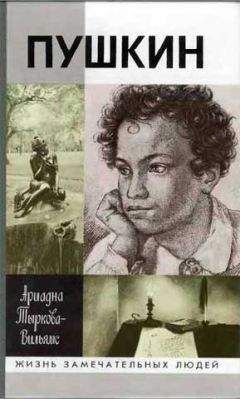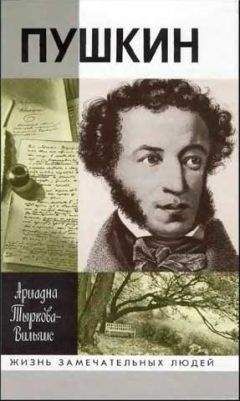И вдруг, точно самая необходимость объяснять «черни лицемерной», к которой он прежде всего причислял полу-милорда, свое право писать и жить писательством бесит его. Пушкин меняет тон, «захлебывается желчью».
«Мне надоело зависеть от хорошего или плохого пищеварения начальства; мне надоело, что в моем Отечестве со мной обращаются с меньшим уважением, чем с первым попавшимся (болваном) бездельником Англичанином, который является, чтобы щеголять среди нас своей (глупостью) тупостью (небрежностью), своим бессмысленным бормотанием.
Нет сомненья, что гр. В., как человек умный, сумеет обвинить меня перед публикой – очень лестная победа, и я предоставлю ему досыта ею насладиться, тем более, что мне так же мало дела до этой публики, как и до порицаний и восхвалений в наших журналах».
Пушкин, привыкший разрешать личные ссоры и столкновения поединками, мог надеяться, что такие речи заставят Голиафа послать Давиду картель. Этого, конечно, не случилось. Голиаф предпочитал перо шпаге и настойчиво писал в Петербург, прося убрать дерзкого коллежского секретаря из его канцелярии. Тут на помощь саранче пришло письмо Пушкина об Афее. Возможно, что, когда он писал второе резкое письмо Казначееву, Пушкин уже успел разочароваться в уме этого Афея. Гутчинсон заикался, и не к нему ли относятся сердитые слова о бормотуне (saraguin)–англичанине?
Во всяком случае, в Петербурге прогневались. 27 июня Нессельроде написал графу. «Император решил дело Пушкина. Он не останется при вас более, но Его Величество при этом выразил желание просмотреть депешу мою к вам по этому поводу, а это может состояться лишь на ближайшей неделе по его возвращении из военных поселений».
Александр I всегда объезжал военные поселения Новгородской губернии с гр. Аракчеевым. Эти поселения, смутный зародыш социализма, были их общим детищем. С Аракчеевым же обсуждал Царь государственные дела, большие и малые. Мог и о Пушкине с ним говорить. Царь читал его стихи, даже благодарил за благородные чувства, выраженные в «Деревне», восхищался «Кавказским пленником». Но эпиграмм на Аракчеева не простил. Возможно, что и новую кару Царь придумал вместе с «без лести преданным» политическим своим наперсником.
Как это ни странно, но в ссылке Пушкина в псковскую деревню принял участие и неисправимый путаник А. И. Тургенев. По связям своим, очень разнообразным, он мог ознакомиться с официальной перепиской о Пушкине. И по-своему тревожился. 1 июля он писал Вяземскому: «Граф В. представил об увольнении П. Желая coûte que coûte[75] оставить его при нем, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже не возможно; что уже несколько раз и давно гр. В. представлял о сем et pour cause[76]; что надобно искать другого мецената-начальника. Долго вчера толковал я о сем с Севериными, и мысль наша остановилась на Паулуччи, тем более, что П. и Псковский помещик. Виноват один П. Графиня его отличала, отличает, как заслуживал талант его, но он рвется в беду свою. Больно и досадно! Куда с ним деваться?»
Таким образом, сам план опять упрятать в деревню Пушкина, который уже четыре года провел в изгнании, вдали от центров умственной жизни, был изобретен и обдуман Тургеневым, совместно с чиновником, который был в ссоре с Пушкиным. Д. П. Северин был Арзамасец, по прозвищу «Резвый кот», и довольно влиятельный чиновник Коллегии иностранных дел. Кажется, поэт его обидел злой эпиграммой:
Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин… и т. д.
Вскоре после переезда Пушкина в Одессу Вяземский писал: «Пушкин был у Северина, который сказал, чтобы он не ходил к нему; обошелся с ним мерзко, и африканец едва не поколотил его» (26 сентября 1823 г.).
Вяземский просил Жуковского через Северина уладить дало. Вяземский писал под явным влиянием первых писем своей жены: «Пишут, что Пушкин снова напроказил, вследствие чего просит об отставке, но наверное ее не получит. Пишут, что нельзя не сожалеть Пушкина, но что он кругом виноват, редко встретишь такую ветренность и такую наклонность к злословию. Сердце у него доброе, но он склонен к мизантропии, он избегает не общества, а людей, которых боится; это объясняют его несчастиями и отношением к нему родителей». Затем идет просьба насчет Северина: «Он его, кажется, не очень любит, – тем более должно стараться спасти его; к тому же, видно, уважает его дарование, а дарование не только держава, но и добродетель» (7 июля 1824 г.).
В последнем великолепном афоризме сказалось смутное ощущение, что в этом походе против молодого поэта, уже волновавшего всех таинственной силой своего гения, есть что-то неладное. «Ты создан попасть в Боги», – писал недавно Жуковский Пушкину, – «дай свободу своим крыльям, и небо твое».
Но вместо свободы этого полубога выслали под опеку нового губернатора Паулуччи.
Прав был приятель Пушкина Соболевский, когда с горечью говорил, что поэта всю жизнь все старались опекать, то правительство, то приятели.
Умный и независимый Вяземский писал по праву рождения, к числу этих опекунов не принадлежал.
Пока приятели и опекуны волновались, начальство решило судьбу Пушкина. 11 июля Нессельроде писал Воронцову (вся переписка шла по-французски): «Правительство совершенно согласно с Вашими заключениями относительно Пушкина, но, к сожалению, пришло еще к убеждению, что последний нисколько не отказался от дурных начал, ознаменовавших первое время его публичной деятельности. Доказательством тому может служить препровождаемое при сем письмо Пушкина, которое обратило внимание московской полиции по толкам, им возбужденным. По всем этим причинам правительство приняло решение исключить Пушкина из списка чиновников Министерства иностранных дел, с объяснением, что мера эта вызвана его дурным поведением, а чтоб не оставить молодого человека вовсе без всякого присмотра и тем не подать ему средств свободно распространять свои губительные начала, которые под конец навлекли бы на него строжайшую кару, правительство повелевает, не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина в имение его родных, в Псковскую губернию, подчинить его там надзору местных властей и приступить к исполнению этого решения немедленно, приняв на счет казны издержки его путешествия до Пскова».
Отправив этот приказ, Нессельроде, точно опасаясь, что Пушкин ускользнет от бдительности нового мецената-начальника, переслал маркизу Паулуччи копию своего письма к Воронцову. В сопроводительном письме было сказано, что Пушкин «не оправдал надежд правительства, что служба при Инзове и гр. Воронцове вернет его на добрый путь и успокоит его воображение, к несчастью, посвященное не исключительно русской литературе, его естественному призванию, и что поэт отдается под надзор местных властей».