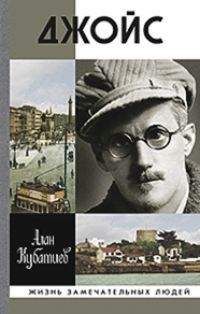Конец 1930 года для Джойса ознаменован важным рубежом: он, по совету своих английских юристов, начинает жить на собственный доход. Джентльмен со скромными средствами получал в то время около девяти тысяч франков в месяц, что равно 70 фунтам, или 350 долларам — таковы роялти от «Улисса». Но и тратит он их по-джентльменски — нищета его ничему не научила. Вот и очередное 2 февраля оставило бы его вечером дома, если бы не Джорджо и Хелен, вернувшиеся с медового месяца в Германии, которые утащили их на ужин в «Трианон». Безденежье было настолько серьезным, что Джойс вынужден был съехать с квартиры на площади Робийяк, оставив только самые необходимые вещи и едва наскребя денег заплатить грузчикам.
Но дела шли совсем неплохо. Среди «джойсистов» появляется еще один оплот, критик Луи Гилле, с которым он повстречался на вечере поэтессы Эдит Ситуэлл, беглой английской аристократки, только начинавшей входить в славу. Гилле подошел с Сильвией извиниться за давнюю ругательную статью о Джойсе — сейчас он был о нем другого мнения. Джойс благосклонно принял извинения — статья в свое время его даже не слишком задела. Вскоре на обеде они обменялись замечаниями о «Ходе работы», и Гилле пообещал опубликовать эту беседу в «Ревю де де монде», что означало причисление теперь уже всех книг Джойса к большой литературе современности.
Объявились и давние знакомые, Падрайк и Мэри Колум. Со временем они с Джойсом стали лучше относиться друг к другу. На лекции молодого лингвиста Пера Марселя Жюссе о технике «внутреннего монолога» и его происхождении от «Лавровые деревья срублены» Дюжардена Мэри спросила Джойса:
— Ты недостаточно позабавился? Мало еще надул народу? Почему бы тебе не признать наконец свой долг Фрейду и Юнгу — неужели так плохо быть обязанным великим открывателям?
Джойс уже забыл, когда с ним разговаривали в такой манере. Он заворочался в кресле и гневно ответил:
— Терпеть не могу всезнающих женщин!..
Однако Мэри тоже была ирландкой:
— Нет, Джойс, можешь. Ты их любишь, и в этом я тебя стану убеждать даже печатно, где только смогу.
Он метнул на нее яростный взгляд, и вдруг гнев на его лице медленно сменился полуулыбкой. Но потом он все равно отплатил ей — язвительным стихотворением про дам-зануд.
Стычки у них бывали постоянно. Когда Джойс читал отрывок из «Хода работы» и спросил ее потом, что она об этом думает, Мэри ответила:
— Джойс, я думаю, это за пределами литературы.
Писатель промолчал, а потом наедине сказал Падрайку:
— Твоя жена говорит: то, что я читал, за пределами литературы. Скажи ей — за пределами сегодняшней литературы ее будущее.
С Падрайком ему было гораздо легче. Он помогал Джойсу, перепечатывая и обсуждая текст «Хода работы», во фрагменте об Ирвикере даже остались две его вставки. Ирландский Колум знал свободно, притом со множеством диалектных словечек. Джойс в качестве благодарности назвал корабль в тексте «Паудрайк».
Между тем Адриенн Монье снова занялась популяризацией «Хода работы». Мисс Уивер собралась посетить действо, и Джойс написал ей, что день этот может стать концом его парижской карьеры, как 7 декабря 1921 года стало ее началом. На 26 марта было решено устроить чтения французского перевода «Анны Ливии Плюрабель» — его читала Адриенн, а перед этим с пластинки звучал отрывок, начитанный Джойсом. Су-по рассказывал о трудностях перевода. Все было очень прилично и скучно до невозможности, и забавник Роберт Макэлмон поднял руки в молитвенном жесте и держал их так до тех пор, пока к нему не подковылял какой-то старик и не дал ему затрещину. Интереснее всего, что это оказался Дюжарден, которому показалось, что Макэлмон жестом намекает на распухшие ноги его супруги… Потом все извинились и помирились. Джойс решил, что имеет теперь полное право уехать в Англию на более долгий, чем обычно, срок.
Нора очень не хотела этого — она знала, чем обернется для него британский климат и британские встречи, но все же в апреле они съехали с площади Робийяк, пожили недолго в отеле и несколько дней спустя отправились в Лондон. Джойс назвал это их «пятой хиджрой». В Лондоне они остановились в «Белгравии»; Джойс уже мог себе это позволить. Квартира в Кенсингтоне, на Кэмден-гроув, 28-Б, снималась на неопределенный срок, потому что Джойс намеревался осесть в Англии и уже вел консультации о регистрации по английским законам брака с Норой. 4 июля, день рождения отца, был выбран днем регистрации, чтобы старик наконец утешился и не боялся, что «беззаконно живущие беззаконно и погибнут». Но в бюро регистрации Джойс сказал, что они уже были зарегистрированы под другим именем жены, и клерк заупрямился. Им следует сначала развестись, а потом уже заключать второй брак. Адвокат Джойса объяснил, что церемония совершенно законна, потому что о предыдущей никаких записей в бюро нет.
«Джеймс Огастен Алоизиус Джойс, 49 лет, холост, независимый доход, заключает брак с Норой Джозеф Барнакл, девицей, 47 лет, оба проживают на Кэмден-гроув, Лондон, 4 июля 1931 года. Отец жениха — Джон Станислаус Джойс, государственный клерк (на пенсии). Отец невесты — Томас Барнакл (сконч.), пекарь».
Репортеры накинулись на них при выходе. Довольная Нора сказала: «Теперь весь Лондон знает, что мы здесь». На первой полосе «Ивнинг стандарт» была фотография новобрачных; Джойса это рассердило, ему казалось, что его выставили на посмешище: когда Артур Пауэр шутливо спросил, как прошла церемония, Джойс сухо ответил: «Если нужна информация, посетите моего поверенного» — и отвернулся. Этот пустяк навсегда испортил их отношения. Но позже он написал о регистрации Станислаусу во вполне юмористическом тоне, подписавшись «Дорогой профессор, матримониально Ваш».
После регистрации к ним приехала Кэтлин, сестра Норы, теперь красивая молодая женщина. Джойс как-то разглядел, что на ней нет часов, подаренных им еще в Богноре, и удивленно спросил ее о них. «Я их заложила», — удрученно призналась Кэтлин. Хохотнув, Джойс ответил: «Точно так же, как я когда-то». С удовольствием он съездил с ней в Стоунхендж, куда Нора ехать не захотела, и в лондонский Тауэр, и в Виндзорский лес, и по шекспировским местам. Он просил ее называть ему деревья, которых различить не мог. В музее мадам Тюссо Кэтлин сказала, что хотела бы его там видеть, а Джойс кисло усомнился в такой возможности. К слову, он оказался прав, хотя и не совсем: они с Йетсом стоят в Зале писателей в Дублинском музее восковых фигур и к ним ходят те же посетители, что и к Майклу Джексону, выставленному по соседству.
Сестры подолгу разговаривали, и Нора жаловалась, что ненавидит ужины, где надо сидеть с творческими личностями до часу ночи, смертельно скучать, но из-за любви к мужу и сострадания к его гаснущему зрению оставаться там… Телесная сторона брака почти утратила для нее значение — похоже, и для него. Чудачества Джойса (так она их называла) то и дело раздражали ее. Когда Кэтлин сказала Норе, что он дал официанту не одну пятифунтовую банкноту, а две, Нора отмахнулась: «Вечно он так!» Еще одна пятифунтовая досталась Кэтлин. Вечером Нора потребовала, чтобы он не давал чаевых привратнику в театре, но Джойс все равно сунул ему два шиллинга. Обозлившаяся Нора повернулась и вышла вон; приунывший муж последовал за ней. Но были и любимые развлечения Джойса, всегда взбадривавшие его.