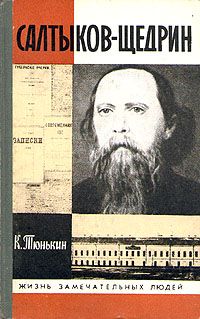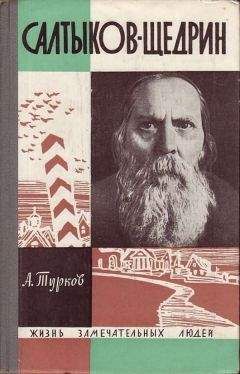Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, чтокогда-нибудь было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которою она поражает его; он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда водворяется в сердце его — это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый конец всего, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем».
Но тон Салтыкова резко меняется на саркастический и беспощадно осмеивающий, когда на сцене вновь появляется Фердыщенко, теперь уже кающийся и проливающий слезы («крокодиловы», — замечает летописец), Фердыщенко, возвращающий Домашку бунтующим стрельцам, но не забывающий при этом послать за воинской командой.
«И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову.
— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.
Трубят в рога!
Разить врага
Другим пора!
Глуповцы оцепенели». Сечение и на этот раз их не миновало.
Но вот новое озорство посетило не столько голову, сколько тело бедного рассудком бригадира. И, конечно, жертвами этого озорства стали опять запуганные и нещадно поротые глуповцы. (Издатель напоминает, что Фердыщенко копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов — по краткой описи градоначальников Фердыщенко обозначен так: «бывый денщик князя Потемкина» — и любил, чтоб его везде чествовали).
Но если князь Потемкин путешествовал по всему лицу земли русской, то в «заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной», кроме бесчисленных навозных куч.
«План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары».
Это было поистине «фантастическое» путешествие, путешествие, так сказать, «нарочное», что-то вроде бессмысленной игры.
Три дня путешествовал так Фердыщенко по навозным кучам городского выгона, встречаемый повсюду обывателями, которые били в тазы и приносили дары. И, наконец, завершил свои «хождения за три моря» гигантским объедением. И бренное тело достославного путешественника не выдержало, «вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла...». Кончилось...
Глуповцы погрузились в ожидание, предчувствуя в страхе появление повой воинской команды...
«Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку». В чем же выразились эти «превосходные» административные меры нового градоначальника?
Фердыщенко был самодуром, но самодуром, так сказать, не на семейной почве, чем прославились купцы-самодуры Островского. Это был самодур-администратор, и самодурство его было все же политическим, ибо он как-никак представлял власть. Правда, самодурство это принимало формы по преимуществу бытовые, диктуемые ему его вожделениями, какие-то дурацки-патриархальные. В области собственно административной его скорее отличало полное бездействие.
Совсем другим предстал перед глуповцами Василиск Бородавкин. Застегнутый на все пуговицы и имея всегда при себе фуражку и перчатки, он поразил глуповцев необыкновенным и во всякое время криком. (Вспомним, что крик и«административная въедчивость» отличали реального губернатора Шидловского.) «Столько вмещал он в себе крику, — говорит по этому поводу летописец, — что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей своих навсегда испугались».
Бородавкин был человеком действия и, кроме того, сочинителем, так сказать, человеком идеи. Еще за десять лет до прибытия в Глупов он принялся за проект «о вящем армии и флотов по всему лицу распространении». Но, поскольку это выходило за пределы его административных возможностей, он решил заняться «так называемыми насущными потребностями края», среди которых главное место занимала, конечно, цивилизация, которую оп определял так: «Наука о том, колико каждому Российской империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит». За изысканием примеров Бородавкин обратился к скрижалям, на которых были начертаны цивилизаторские деяния его предшественников. «Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали — вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! — и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает... «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю — того разобрать невозможно... Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее». Лишь один статский советник Двоекуров выделялся из этой толпы теней. Его-то, «просветителя» и «цивилизатора», решил Бородавкин взять себе за образец.