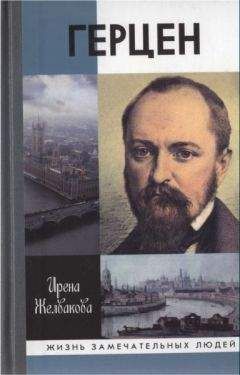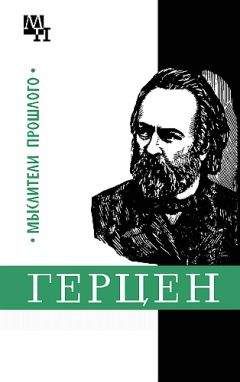Сначала свершилось изгнание Мальвиды. Наталья Алексеевна сразу же перешла в наступление. 29 мая 1856 года она писала Герцену: «Вот что я думаю; что вы скажете, то будет сделано. Я знаю, что мы должны вместе дожить эту тяжелую жизнь, а между тем, дайте мне сказать, что на душе; глядеть вечно издали на детей с сознанием, что я ничего не исполнила, не знаю, хватит ли сил; уехать возможнее, я думаю. Вы не знаете, как письмо, в котором она звала меня, жжет мне сердце и теперь, когда я перечитываю его».
На первых порах Герцен отвергал малейший намек на разлуку с верной Мали, но все-таки выбрал между ней и друзьями. Он говорит ей о своей привязанности к Огареву, читает письмо Натали к Тучковой-Огаревой, поручающее ей детей. Мейзенбуг вынуждена покинуть любимую семью. Уже 30 мая он оставляет для Мальвиды письмо: «Я долго говорил с Огаревым. Мы не пришли ни к какому результату. Он предложил, чтобы его жена уехала на год — я от вашего имени отказался. Совершенно теряю надежду сделать то, что казалось возможным. Я считал, что необходимо вас известить об этом раньше, чем вы будете говорить с мадам Огаревой.
Поступите так, как вам подскажет ваше сердце… Я хотел сохранить всё — насколько это было возможно, но вижу, что не будет единства, не будет той полной свободы, без которой совместная жизнь будет тяжела и для них, и для вас. <…> Моя дружба, независимо даже от моей признательности, искренна».
Ни чувства глубокого почитания со стороны Герцена, ни «горючие слезы мадам Огаревой» не могли предотвратить этой трагической жертвы. На следующий день Герцен так истолковывал свое решение в письме верному другу Марии Рейхель: «С приезда Огар[евых] М-selle Meys[enbug] начала сердиться на них и на меня. Зачем Нат[алья] Ал[ексеевна] ласкает так детей, зачем мы иногда говорим по-русски, зачем Тата ее любит больше и пр. Это дошло до объяснений, очень благородных — но все-таки горьких. Из-за всего этого проглянуло нечто совсем другое — самолюбие и, кажется, невероятная мысль на бесконечное продолжение теперичной жизни. Ревность за детей приняла тотчас характер постоянной ссоры Таты с Ольгой».
Все наши герои обмениваются письмами, сожалениями, упреками, чтобы подтвердить правоту своих бескорыстных побуждений.
«Единение трех личностей во имя четвертой», ушедшей навсегда, вряд ли могло долго продолжаться.
Двенадцатое июня 1856 года — важное знамение судьбы. Этот день вновь «каркнул вороном» в его жизни, и он сам невольно подтолкнул ее к «перелому». Герцен дарит Огаревой бесценную для него вещицу — веер Натали: «Друг мой и сестра, сегодня ли или в понедельник твое рождение — дай мне право поблагодарить тебя за все теплое, родное, что ты ввела в мою разбитую жизнь. Ты — странно твое отношение ко мне — ты разом представляешь мне и Огарева и Наташу — и сверх того, ты мне сама близка с тех пор, как я тебя короче узнал».
Десятого сентября Герцен с семьей и с Огаревыми переезжает в Путней, в Laurel House. Здесь, в «непривлекательном доме» с красивым садом, благоухающим по весне сиренью и жасмином, и начинается их совместная жизнь. Все хорошо разместились.
У Александра Ивановича свой распорядок. Вставал в шесть, по лондонским обычаям — рано. Прислугу не будил. Читал несколько часов у себя в комнате. В девять, в столовой обычно выпивал целый стакан крепчайшего кофе, как подтверждает Тучкова, «очень хорошего достоинства». За кофеем читал «Таймс». Направления газеты не разделял, но находил необходимым ее просматривать. Делал замечания и сообщал всем присутствующим разные новости. Потом шел в гостиную, чтобы работать до завтрака. Во втором часу подавали ланч, состоявший из двух блюд: почти всегда из холодного мяса и остатков вчерашнего обеда. Герцен выпивал кружку любимого им светлого пива «pal al» и толковал с Огаревым, только что присоединившимся к компании, о насущных занятиях и первостепенных статьях. Иногда просматривали уже готовый материал. После обеда Герцен обыкновенно читал вслух что-нибудь из истории или литературы, понятное старшей Тате, а когда дочь уходила спать, выбирал для сына подходящие его возрасту книги. Все расходились в двенадцатом часу, а то и позже. Герцен едва ли спал шесть часов. Работал, читал, следил за новинками литературы и новыми открытиями науки. Когда отправлялся в Лондон, ездил по железной дороге, находившейся в двух шагах от дома, а если опаздывал, садился в Фулеме за Путнейским мостом на омнибус, который отходил каждые десять минут.
Жизнь текла. Всё как обычно: занятия, встречи, приемы, обеды, нашествия изгнанников (дом по воскресеньям открыт); рассказы, подозрения, дружбы, привязанности, ссоры, сомнения…
Но в конце ноября происходит предвиденное — объяснение Герцена с Тучковой-Огаревой. 9 ноября, когда все было высказано, Натали признается сестре: «Я полюбила его всеми силами измученной души…» А в самом конце того же года, когда отношения доходят до роковой черты, Герцен не может не написать тревожное письмо живущему с ним бок о бок Огареву, где растерянно признается, предупреждает.
Он вовсе не склонен нарушать гармонию сложившегося trio, они слишком «сжились втроем, будто и век вековали», он не хочет ничего менять, но уже не в силах отразить бурное наступление безмерно увлеченной Натали: «Я заметил в дружбе N[atalie] ко мне более страстности, нежели я бы хотел. Я люблю ее от всей души, глубоко и горячо — но это вовсе не страсть, для меня она ты же, вы оба — моя семья, и, прибавив детей, всё, что у меня есть. Я сначала в Путнее — отдалялся, она меня не поняла и была так этим огорчена, что я, разумеется, спешил утешить ее. К тому же я, так давно лишенный всякого теплого женского элемента, не мог не быть глубоко тронут ее братской дружбой. Ты ее хотел; в моей чистой близости с твоей подругой был для меня новый залог нашего trio. Но когда я опять увидел, что она увлекается, я все это считал результатом ее пылкого характера и непривычкой владеть собою — наконец она видит во мне Наташу, защитника ее за гробом, твоего друга, брата и мою симпатию.
Мысль, что все это будет тебе больно — не давала мне столько же спать, как мысль о твоей болезни сначала.
Сколько я ни ставил пределов — вы оба ломали их, доверие это я заслужил — смело, чисто стою я перед тобой, Друг моей юности, — но еще шаг, и новая пропасть откроется под ногами.
Я хочу вас сохранить себе, и себя вам — но для этого дай твой совет и твою руку. А главное безусловную веру.
Быть ближе того, как я к N[atalie] — другу, брату нельзя, всю мою любовь к вам обоим я употреблю на сохранение всего. Нет в мире силы, страсти, которая бы отторгла тебя от меня».