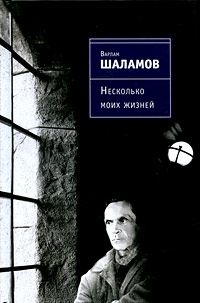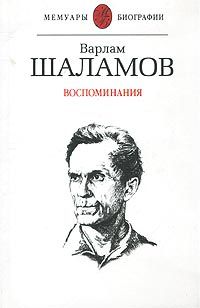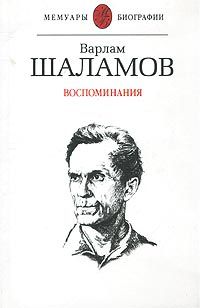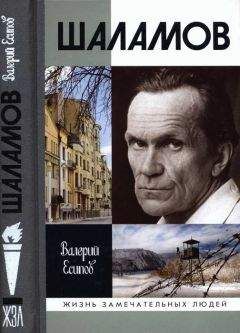И далее в том же письме:
«Из своего я признаю только лучшее из раннего («Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти») и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, каквпоэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, иочень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского… я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше».
Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согласиться. Но несомненно одно: литературная манера лефовского круга, ее внутренняя фальшь – ощущалась Пастернаком с великой болью всю его творческую жизнь. Он считал, что поздно вышел на правильную дорогу. И все же, самое лучшее, самое главное – в осужденных им сборниках стихов. Ибо емкости строки, свежести наблюдения, чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых стихов более позднего времени Пастернак не достиг более. В стихотворениях из романа в прозе много замечательного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». Пастернак говорил: «Я хочу сказать многое для немногих». Ему удалось сказать многое для многих.
Главные литературные группы – «Перевал» и РАПП – непрерывно росли на «местах». В городах рождались эти группы «парно».
Лефовцы и конструктивисты, конечно, о провинциальных отделениях своих и не мечтали, не говоря уже о разных «прочих шведах», вроде оригиналистов-фразарей и ничевоков. Впрочем, героические действия Кирсанова в Одессе в этом направлении были, кажется, успешны. Во всяком случае, были сочинены стихи:
Одесса – город мам и пап
Лежит, в волне замлев,
Туда вступить не смеет РАПП,
Там правит ЮГОЛЕФ[126].
От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие Александр Лежнев, Дмитрий Горбов[127], позднее Давид Тальников[128]. В ответственных случаях выступал сам Воронский.
Воронский был не только редактором «Красной нови» и журнала «Прожектор». Он был капитальным по тому времени теоретиком искусства и литературы – автором книги «Искусство видеть мир». Он написал десятки критических статей, писательских портретов, полемических статей по вопросам литературы.
Написал роман «Глаз Урагана», биографию Желябова, автобиографическую повесть «Бурса» и воспоминания «За живой и мертвой водой».
Был организатором и вождем большого литературного объединения «Перевал».
Профессиональный революционер, Воронский был личным другом Ленина, посещавшим его в Горках в дни болезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по вопросам эмигрантской литературы в начале двадцатых годов.
В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе не выступал.
Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпущен с его очень теплой вступительной статьей.
Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Воронскому.
Воронский стоял во главе большого издательства «Круг»[129].
Словом, роль его в двадцатые годы была весьма приметной. Он был одним из главных строителей молодой советской литературы, воспитал и оказывал помощь многим писателям.
Года два назад критик Машбиц-Веров[130], живущий ныне в Саратове, в статье в «Литературную газету» звал Леонова и Федина рассказать о роли Воронского в становлении их как писателей.
Издательство «Круг» и редакция «Красная нива» были в Кривоколенном переулке.
Я пришел на одно из редакционных собраний.
Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают черные снежинки. На плечи Воронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На столе горела керосиновая лампа «десятилинейка», освещая сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне – огромная тень головы передвигались по потолку, пока Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный голубой дым медленно поднимался к потолку.
Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем, как начать говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда я узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый[131].
В начале революции Воронский работал в Иванове редактором областной газеты «Рабочий край». Потом перебрался в Москву, изложил Ленину план создания первого «толстого» литературно-художественного журнала. Организационное собрание журнала «Красная новь» состоялось на квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: Н. К. Крупская, В. И. Ленин, А. М. Горький, А. К. Воронский. Доклад о журнале был сделан Воронским, и было решено, что художественной частью будет заведовать Горький, а редактором журнала станет Воронский. Для первого номера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод Иванов – свою первую повесть «Партизаны».
Горький связал Воронского с ленинградскими писателями – с бывшими «Серапионами».
Ленин угадал в Воронском талант литературного критика, так же как в Вацлаве Воровском[132] угадал дипломата, а в Цюрупе[133] – крупного государственного деятеля. Встречаясь когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оценивал их будущие возможности в качестве строителей государства, искусства. И. К. Гудзь[134], работник Наркомпроса, один из авторов известного закона о ликвидации неграмотности, вспоминал, как Ленин ходил по коридору Наркомпроса (он каждый день заезжал за Н. К. Крупской) и говорил: «У нас никто не знает, как строить государство. Знаю я, Свердлов, Цюрупа. Остальные – не знают».
В тридцатых годах я был на чистке Воронского. Его спросили: «Почему вы, видный литературный критик, не написали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете романы, биографии?»
Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо журналиста».
Вслед за «Красной новью» стали выходить и другие толстые журналы: «Молодая гвардия», «Печать и революция» – редактором был Н. Л. Мещеряков[135], «Новый мир» с редактором Луначарским, «ЛЕФ» редактировал Маяковский, «Октябрь» – Панферов.
У тонкого журнала «Красная нива» редактором был А. В. Луначарский.
НЭП вызвал к жизни «Смену вех»[136]. И. Лежнев[137] редактировал журнал сменовеховцев «Россия». И потом, когда «Россия» из-за Устряловской[138] статьи была закрыта, выходила – под редакцией того же Лежнева – «Новая Россия», где печатался роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».
Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу видно, что в русскую литературу пришел новый большой талант.
Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с маловыразительным лицом, был живым опровержением всяких «френологических» теорий. В детстве моем бытовало мнение, что объем головы, высота лба – верные внешние признаки мудрости. Мозг Тургенева весил необыкновенно много. Но время подрезало эти теории: мозг Анатоля Франса весил ничтожно мало. Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов[139], харьковский физик. Узкие в щелочку глаза, невысокий лоб с множеством складок, скошенный подбородок…
Михаил Булгаков – киевлянин. Валентин Катаев – одессит. Они впервые приехали в Москву с юга страны, первыми завоевали писательское место.
Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «географии» молодой советской литературы. Бабель, Петров, Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов – все они с юга.
Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной школе» нашей литературы, а первый сборник стихов Багрицкого так и называется «Юго-Запад».
Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов переместили на северо-восток нашей страны. Это обстоятельство иронически обыграно в названии сборника стихов В. Португалова[140], вышедшего в 1960 году. Португалов, чья биография, вынесенная в аннотацию, сама звучит как стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книжку – «Северо-Восток».
. . . . . . . . . . . . . . . .
Булгаков не знал неизвестности, непризнания. Талант его был сразу оценен, замечен.
«Белую гвардию» напечатали за границей.
Но к русскому читателю Булгаков не добрался. Журнал «Россия», где печатался его первый роман, был закрыт.
Булгаков выступает с фантастической повестью «Роковые яйца», со сборником рассказов «Дьяволиада».