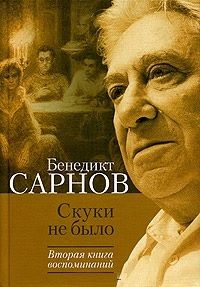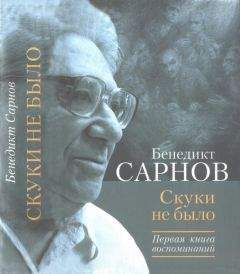И всё это он рассказал мне — далеко не самому близкому ему человеку — мимоходом, просто потому, что пришлось к слову. А сколько еще неведомых мне, быть может, куда более драгоценных тогдашних своих мыслей и наблюдений он не позволил себе включить в свою «главу о Бухарине», оставив их за кадром.
Ну, это ладно. Это еще понятно: главу о Бухарине (хотя никакой «главы», в сущности, не было, — то, что он называл главой, уместилось в две-три странички) он хотел напечатать. Но уж в главе о Троцком, которую он печатать не собирался, которую заранее предназначал для архива, — тут-то, казалось, он уж мог бы себе позволить быть откровенным до конца, что называется, на всю катушку!
Нет, не позволил.
Мало того. Как выяснилось, он так и не написал эту главу. А то, что написал, тоже пошло не «в архив», а — в печать.
В 13-й главе первой книги своих мемуаров, вспоминая о том, как один товарищ по партии предложил ему поехать из Парижа в Вену, где его, возможно, используют для переброски литературы в Россию, он коротко сообщает:
В Вене я жил у видного социал-демократа X. — я не называю его имени: боюсь, что беглые впечатления зеленого юноши могут показаться освещенными дальнейшими событиями. Моя работа была несложной: я вклеивал партийную газету в картонные рулоны, а на них наматывал художественные репродукции и отсылал пакеты в Россию. X. жил с женой в маленькой, очень скромной квартире. Однажды вечером жена X. сказала, что чая не будет: газ на кухоньке подается автоматом, в который нужно было бросить монету. Я поспешно побежал и бросил в пасть чудовищу крону. X. был со мною ласков и, узнав, что я строчу стихи, по вечерам говорил о поэзии, об искусстве. Это были не мнения, с которыми можно было бы поспорить, а безапелляционные приговоры. Такие же вердикты я услышал четверть века спустя в некоторых выступлениях на Первом съезде советских питателей. Но в 1934 году мне было сорок три года, я успел кое-что повидать, кое-что понять; а в 1909 году мне было восемнадцать лет, я не умел ни разобраться в исторических событиях, ни устроиться поудобней на скамье подсудимых, хотя именно на ней мне пришлось просидеть почти всю жизнь. Для X. обожаемые мною поэты были «декадентки», «порождением политической реакции». Он говорил об искусстве как о чем-то второстепенном, подсобном.
Это не отрывок из главы, а — вся глава. Всё, что от нее осталось.
Можно, конечно, предположить, что главу, написанную и первоначально предназначавшуюся им для архива, он по каким-то своим причинам решил уничтожить, оставив от нее только этот жалкий огрызок. Но я думаю, что никакой главы и не было — только он и был, один этот длинный абзац.
Но даже если это и не так, важно, что и эту «архивную главу» он в конце концов тоже решил напечатать, хотя бы даже и ценой превращения ее в некое подобие ребуса.
Нина Берберова в книге своих мемуаров «Курсив мой» (едва ли не лучшей русской мемуарной книге XX века) приводит такой диалог:
— Но ведь ты же уцелела! — закричала мне с неожиданной силой молодая женщина, приехавшая из Лондона в Париж, племянница погибшей Оли, одна живая из всей огромной семьи. — Для чего-нибудь же ты уцелела?
(В одну десятую доли секунды не мелькнула ли во мне тогда мысль написать эту книгу? Не знаю. Может быть.)
— А что там? — спрашиваю я. — Уцелеет там хоть один?
— Непременно уцелеет, чтобы рассказать. Увидишь. Может быть — Пастернак, может быть — Эренбург.
Оказалось, что там (то есть у нас, здесь) эту задачу выполнил именно он, Эренбург.
В конце своей книги Берберова говорит об этом прямо:
…Я не могу оторваться от его страниц, для меня его книга значит больше, чем все остальные, за сорок лет. Я знаю, что большинство его читателей судит его. Но я не сужу его. Я благодарна ему. Я благодарю его за каждое его слово.
Но тут же, признавшись, что и она в своей книге говорит не обо всем, что и у нее тоже немало разного рода умолчаний, она замечает:
Я наклоняюсь над книгой… Она лежит под лампой, я ухожу в нее. Я читаю ее, строку за строкой, и замечаю, что в ней столько страниц текста, сколько и умолчаний. Но эта книга не похожа на ту, которую я пишу сейчас.
В ней старый писатель, которого я когда-то знала, рассказывает о себе, о людях и годах. Он тоже любит думать, и тоже, как и я, научился думать поздно. Но какой страшной была его жизнь! И как связан он в своих умолчаниях, и как я свободна в своих!
Из Савла он не стал Павлом.
Он Павел Савлович.
Виктор Шкловский. Zoo, или Письма не о любви
Спешит закончить Эренбург
свои анналы,
как Петр — закончить Петербург:
дворцы, каналы.
Он тоже строит на песке
и на болоте…
Борис Слуцкий
Если следовать логике, да и грамматике, слово «тоже» у Слуцкого относится к Петру. Но на самом деле — к нему самому, лет за пятнадцать до того сказавшему о себе:
Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек…
Эренбург строил на том же песке. И не только «свои анналы»: жизнь.
Я уже говорил, что задолго до моего личного знакомства с Ильей Григорьевичем, еще с юности, у меня было такое чувство, что я с ним связан какими-то особыми узами. Была, например, ни на чем, в сущности, не основанная уверенность, что если вдруг понадобится обратиться к нему с какой-нибудь важной просьбой (не личного, а общественного характера), МНЕ он не откажет. Именно этим чувством был продиктован мой порыв кинуться к Эренбургу, требуя от него, чтобы он ответил на гнусную шолоховскую статейку о псевдонимах. И позже, уже в иную эпоху, сразу пришедшая в голову мысль именно к нему — первому — обратиться с просьбой подписать письмо в защиту Синявского и Даниэля.
Тут я должен сказать, что эта мысль пришла в голову не только мне. И даже мне — не первому. Первой, сколько мне помнится, была Вика Швейцер. А ездили к Эренбургу с просьбой подписать это письмо Сарра Бабенышева и Рая Орлова. И он подписал. Правда, не сразу, а выдвинув — в ультимативной форме («иначе не подпишу») требование, чтобы в текст письма была внесена довольно существенная оговорка: «Хоть мы и не одобряем…» Что-то в этом роде[2].
Этот его ультиматум дал повод многим моим друзьям покатить на него очередную бочку.
Впрочем, почти все они (за редкими исключениями) и раньше относились к Эренбургу прохладно. Некоторые прямо говорили, что недолюбливают его, и это меня не удивляло и даже не сильно задевало. Но отношение к нему Шурика Воронеля, с которым мы однажды заговорили на эту тему (как раз вот в связи с тем письмом в защиту Синявского и Даниэля), меня поразило.
Спасая своего друга Даниэля (с Юликом они были связаны давней и тесной дружбой, именно он меня с ним и познакомил), Шурик готов был обратиться за помощью не то что к Эренбургу, но и к самому дьяволу. Но об Эренбурге при этом он отзывался крайне враждебно. Я бы даже сказал, с какой-то неистовой злобой.
Когда я попытался доискаться до причин этой его повышенной злобности, он угрюмо сказал:
— Никогда не забуду, как я плакал, читая одну его статью.
Я не понял. Все тогдашние статьи Эренбурга я тоже, конечно, читал. Но мне было решительно невдомек, над чем там можно было плакать.
— Я плакал, — объяснил Шурик, — потому что всё, что я думал и чувствовал тогда, было в противоречии с тем, что думали и чувствовали все мои друзья. И учителя. И родители. Ну, на друзей и учителей, положим, мне было наплевать. Родителям подростки, вы знаете, тоже не больно стремятся верить. Но Эренбург!.. Я читал его статью и в отчаянии думал: «Что же я за урод такой! Вот даже Эренбург и тот думает не так, как я!» Ему-то я верил, не мог не верить!.. И вот этих моих детских слёз я вашему Эренбургу никогда не прощу!
Я не спросил тогда у Шурика, какая статья Эренбурга вызвала у него эти яростные слезы. Не спросил, потому что такую реакцию могла вызвать едва ли не любая его статья. Ведь почти в каждой он защищал официальную советскую идеологию. И защищал не казенным, суконным советским языком, а по-своему, по-эренбурговски: темпераментно, даже страстно, а главное — очень лично. Приводя доводы и соображения, которые заражали своей неопровержимой убедительностью.
Помню, например, его статью, появившуюся в самый пик борьбы за российские приоритеты в науке, — когда «французскую» булочку переименовали в «московскую» и все мы повторяли только что родившуюся остроту: «Россия — родина слонов».