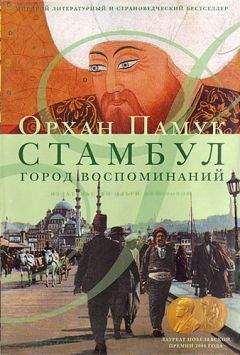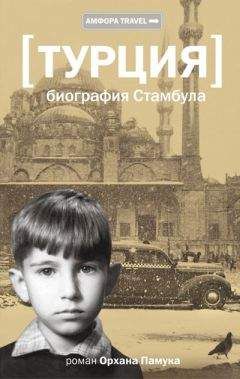Мама ведь тоже иногда исчезала. Однако, когда исчезала она, нам всегда давали какое-нибудь объяснение. Например, говорили: «Мама заболела, отдыхает у тети Нериман». Помню, что я находил эти объяснения разумными, так же как, пусть на какое-то мгновение, по доброй воле верил в истинность зеркальных иллюзий. В сопровождении бабушкиного повара или швейцара Исмаила-эфенди мы на пароходе или автобусе отправлялись навестить маму на другой конец города, например, в Эренкёй или Истинье, где жили наши родственники. В памяти у меня сохранилась не столько печаль этих путешествий, сколько ощущение приключения. Рядом был старший брат, и я подсознательно был уверен в том, что в случае опасности первым с ней будет иметь дело именно он. Когда мы добирались до нужного дома, нас встречали родственники с материнской стороны — пожилые добрые тетушки и немного пугавшие меня волосатостью своих рук дядюшки. Первым делом приласкав нас, они показывали нам все, что могло бы нас заинтересовать в их доме: заливающуюся колокольчиком канарейку, немецкий барометр, который, я думаю, был у каждой европеизированной стамбульской семьи (он представлял собой фигурки наряженных в баварские крестьянские костюмы мужчины и женщины, в зависимости от погоды выходившие из своего домика или скрывавшиеся в нем), и часы с кукушкой, которая своей решительностью и пунктуальностью каждые полчаса повергала в растерянность канарейку, пытавшуюся по мере сил дать достойный ответ; и, наконец, нас вели в мамину комнату.
Красота виднеющегося за распахнутым окном моря, света и простора повергала меня в изумление (может быть, поэтому я так люблю картины Матисса с южными пейзажами за окном); потом я расстраивался и пугался оттого, что встретил маму в таком красивом и чужом месте, но успокаивался, почувствовав наполняющий комнату ни с чем не сравнимый «мамин запах», исходящий от ее вещей, лежащих на треножниках — щипчиков, флакончиков с духами, щетки для волос с облупившейся полировкой. Очень хорошо помню, как мама по очереди брала нас с братом на руки и нежно ласкала. Брату она давала множество наставлений (она всегда очень любила давать наставления) о том, что ему нужно сделать, что сказать, куда пойти, как себя вести, какую вещь принести ей в следующий раз и из какого шкафа ее достать. Я, не прислушиваясь к этим разговорам, смотрел в окно; когда же доходила очередь до меня, мама начинала со мной шутить и пересмеиваться.
Во время одного маминого исчезновения папа привел в дом няню — чрезмерно белокожую, низкорослую, округлую женщину, которую никак нельзя было назвать красивой. Она постоянно улыбалась и с умным видом, который ей самой, видимо, очень нравился, говорила, что и мы должны делать то же самое — постоянно улыбаться. Мы с братом никак не могли к ней привыкнуть; кроме всего прочего, мы были разочарованы тем, что она не была иностранкой, как няни, виденные нами в некоторых других семьях. Те няни были в основном немками, проникнутыми протестантским духом; наша сравнения с ними не выдерживала и потому не пользовалась у нас авторитетом. Когда мы с братом затевали потасовку, она начинала причитать: «Ребятки, тихо, ну, пожалуйста!» Мы порой в папином присутствии передразнивали ее, и папа, глядя на это, смеялся. Вскоре няня тоже исчезла. Позже, когда во время папиных «исчезновений» нам с братом случалось сцепиться в смертельной схватке, мама, потеряв всякое терпение, в отчаянии восклицала: «Я сейчас возьму и уйду!» или «Выброшусь сейчас из окна!» (однажды она даже перекинула свою красивую ногу через подоконник). Когда же она добавляла: «И тогда ваш папа женится на той женщине», в качестве претендентки на звание новой мамы мне представлялась не одна из тех женщин, о которых вообще-то никогда не говорили, но чьи имена порой, в минуту гнева, срывались с маминых уст, а та бледная, пухлая, добродушная и растерянная няня.
Мы все жили в одном доме, в одних и тех же комнатах, на одной улице, мы (позже я понял, что это относится ко всем настоящим семьям), за небольшими исключениями, все говорили на одни и те же темы и ели одни и те же блюда (а это источник семейного счастья, его залог и причина его смерти); но, несмотря на это, непонятные «исчезновения» родителей меня не очень расстраивали. Они, как и мамино зеркало, спасали меня от скуки повседневной жизни и переносили в другой мир, словно веселые и загадочные отравленные цветы. И я не лил слез из-за этих «исчезновений», из-за семейных бед и ссор, которые многое говорили темной стороне моего сознания, занимали меня и заставляли острее ощущать свое бытие и свое одиночество, о котором хотелось забыть.
Ссоры, как правило, начинались за столом. Потом более подходящим для этого местом стал купленный папой «опель рекорд» 1959 года выпуска — ведь выйти из мчащейся машины не так просто, как в гневе вскочить из-за стола. Порой, когда во время задолго планировавшейся поездки или обычной воскресной прогулки по Босфору между папой и мамой начиналась перепалка, мы с братом заключали пари: доедет папа до ближайшего моста или у первой же бензоколонки, вдавив тормоза и резко развернувшись, словно капитан, в гневе возвращающийся к пристани и сгружающий на нее только что погруженный товар, отвезет нас назад домой, а сам умчится на машине неведомо куда.
В те годы, когда ссоры между родителями только начинались, одна из них произвела на нас значительно более сильное впечатление — в ней было нечто поэтическое и возвышенное. Дело было в нашем летнем доме на Хейбелиаде. Во время ужина папа и мама одновременно выскочили из-за стола (мне нравились такие моменты, потому что, если за столом не было взрослых, я, как того хочется любому ребенку, мог есть не так, как требовала мама, а так, как хотелось мне самому) и убежали на второй этаж. Некоторое время мы с братом сидели за столом и молча прислушивались к крикам, доносящимся сверху, а потом, повинуясь некоему внутреннему голосу, побежали туда, наверх. (Повинуясь тому же внутреннему голосу, я открыл эти скобки и понял, что означает это только одно — я совсем не хочу вспоминать обо всех этих историях.) Обнаружив, что мы наблюдаем за ссорой, грозящей перерасти в потасовку, мама разом выставила нас в другую комнату и закрыла дверь. Там было темно, но сквозь матовые, с орнаментом в стиле ар нуво дверные стекла из другой, ярко освещенной комнаты в нашу проникал ровный свет. Мы с братом, застыв на месте, прислушивались к крикам и восклицаниям и смотрели на движущиеся по матовому стеклу тени, которые приближались друг к другу, соприкасались, расходились и снова сближались. От напряжения этой волнующей игры теней стекло порой дрожало, словно занавес во время представлений «Карагёза»,[35] и все было черно-белым.
Иногда папа и мама исчезали одновременно — так случилось, например, зимой 1957 года. Брата тогда отправили жить двумя этажами выше, к тете и ее мужу, а за мной однажды вечером приехала другая тетя и увезла меня к себе в Джихангир. Ей очень не хотелось, чтобы я расстраивался из-за переезда, и поэтому она была со мной очень мила. Как только мы сели в ее «шевроле», она сказала, что попросила шофера Четина купить мне йогурт. Хорошо помню, что йогурт меня не очень заинтересовал, а вот тот факт, что у тети есть шофер, — очень. Когда мы добрались до ее дома, построенного моим дедушкой (позже я буду жить в одной из его квартир), я был очень разочарован тем, что в доме нет лифта и батарей отопления, а квартиры маленькие. Я пытался привыкнуть к новой жизни и побороть печаль, но следующий день принес еще одно огорчение: проснувшись после обеда и лежа в постели в пижаме, я стал звать служанку, как делал это дома, чтобы она подняла меня и одела. Я был избалованным ребенком, и, конечно, совсем не ожидал получить в ответ довольно строгий выговор.
Может быть, поэтому все оставшиеся дни я напускал на себя важный вид и вообще держался немного высокомерно. Однажды, когда мы с тетей, ее мужем Шевкетом Радо, журналистом, поэтом и издателем (это он опубликовал факсимильное издание книги Меллинга), и их одиннадцатилетним сыном Мехметом (старше меня на семь лет) сидели и ужинали, а со стены на нас смотрел портрет моего симпатичного двойника в кепке, я как бы между делом сообщил, что премьер-министр Аднан Мендерес — мой дядя. Мое заявление не было встречено с подобающим уважением, на которое я рассчитывал; напротив, родственники стали хихикать и задавать мне насмешливые вопросы, что я воспринял как полную несправедливость — я ведь искренне верил, что мой дядя — премьер-министр.
Эта уверенность, впрочем, жила только в одном уголке моего сознания. Объяснялось это искреннее заблуждение вот чем: у моего дяди Озхана имя было из пяти букв, как и у премьер-министра, и заканчивалось тоже на «ан»; премьер только что улетел с визитом в Америку, где мой дядя жил долгие годы; фотографии и того, и другого я видел по несколько раз каждый день (премьер-министра — в газетах, а дядины — в самых разных местах бабушкиной гостиной), и на некоторых фотографиях они были очень похожи. Повзрослев, я заметил (но это мне не очень помогло), что многие мои мнения, суждения, убеждения и предубеждения образуются по схожему принципу. Так, например, я честно верю, что у людей с одинаковыми и даже похожими именами и характер должен быть схож; что у незнакомых мне турецких и иностранных слов значения схожи со значением тех слов, на которые они похожи по звучанию; что женщина с ямочками на щеках должна быть так же мила, как другая женщина с ямочками на щеках, с которой я познакомился раньше; что все толстые люди похожи друг на друга; что бедняки образуют некое тайное общество, о котором мне ничего не известно; что между Бразилией и горохом есть некая связь (не только потому, что Бразилия по-турецки — Brezilya, а горох — bezelуе, но и потому, что посередине бразильского флага изображено нечто вроде громадной горошины). Точно так же некоторые американцы искренне убеждены в существовании некоей связи между индейкой и Турцией.[36] Связь между премьер-министром и дядей, однажды возникнув в моем сознании, так никуда и не исчезла; точно так же, раз повстречав в одном ресторане дальнего родственника, подкрепляющегося яйцами со шпинатом (одной из замечательных особенностей Стамбула времен моего детства было то, что на улицах и в лавочках мне постоянно встречались родственники и знакомые), я и сейчас, полвека спустя, где-то в глубине души уверен, что он до сих пор сидит в том ресторане (давно закрывшемся) и продолжает есть яйца со шпинатом.