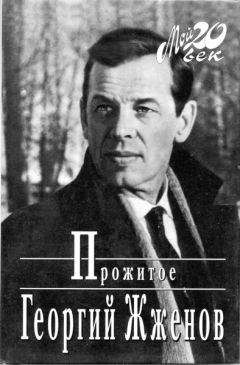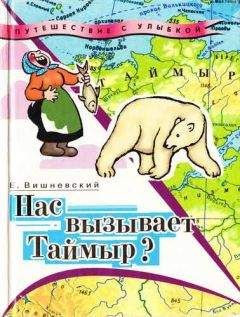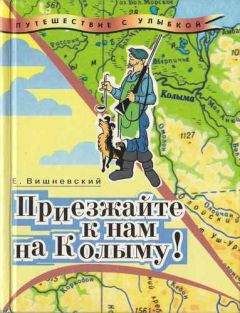В сентябре 1939 года, когда птицы потянулись на юг, меня в числе других согнали вниз, на «пятачок» корпуса, к кабинету начальника тюрьмы, «за получкой».
Выйдя из кабинета начальника, я увидел в проеме открытой двери медсанчасти мою любовь… Она приветливо махала мне рукой и улыбалась:
— Ну, как дела, поэт?.. Сколько?
— Вы угадали, доктор: пять лет Колымы!
— Вот видишь… Не горюй, поэт! Там апельсины растут! Все будет хорошо.
На столике у нее стоял в стакане букет ромашек. Она вынула один цветок и с улыбкой протянула мне:
— На память тебе, поэт! Прощай.
Когда цветок стал вянуть, я не удержался и сыграл с ним в «вернусь — не вернусь»…
Последний лепесток на ромашке носил имя «вернусь». Что ж!.. Какая ни есть, а надежда.
«Я послал тебе черную розу…»
Сталинский альянс с Гитлером окончательно развеял иллюзию многих тысяч жертв беззакония, томившихся в переполненных тюрьмах и все еще продолжавших верить, что их арест — трагическое недоразумение, ошибка, и не более того…
Скрепленный в августе тридцать девятого рукопожатием Молотов — Риббентроп, альянс этот отозвался по стране сотнями тысяч обвинительных приговоров…
Следственные тюрьмы после некоторого затишья снова спешно разгружались в лагеря…
Особое совещание свирепствовало.
Тюремная морзянка отстучала новость: «Привезли очередную «зарплату» из ОСО. Дают по три, по пять и по восемь…» Так вот почему хлопают двери камер, слышатся голоса надзирателей, стучат и шаркают шаги на галерках… Скоро, значит, дойдет очередь и до нас, грешных, скоро мы узнаем, сколько кому причитается за полуторагодовалый «пансион» в «Крестах», — развязка близится.
…С металлическим лязгом, словно передернули затвор винтовки, открылась «кормушка». Показалось лицо надзирателя. Камера притихла… Пошелестев в руках бумагами, надзиратель громко зачитал несколько фамилий (мою в том числе). Получив ответное: «Есть», скомандовал: «На выход. С вещами».
Нас погнали вниз, на «пятачок» корпуса, и приобщили к группе заключенных из других камер, сидевших на корточках у дверей канцелярии. Вызывали поодиночке.
Ну вот, кажется, и всё… И конец неизвестности! Ружье выстрелило! Заочное судилище состоялось, и я уже не подследственный — я осужденный. Пять лет Колымы!
Несколько минут назад в присутствии начальника тюрьмы мне зачитали выписку из постановления ОСО НКВД СССР и предложили расписаться в уведомлении.
«Сдохла правда», — через всю официальную бумагу крупно вывел я и поставил подпись.
Чиновник, зачитавший приговор, возмутился, наорал на меня, пригрозил карцером. Потом почему-то сбавил тон и стал даже оправдываться: «Я-то причем? Не я тебе срок давал. Мое дело объявить, и только… А вот ты — хулиган, мальчишка! Казенную бумагу замарал — испортил. Теперь неприятности будут от начальства…»
«Переживешь, — подумал я, — мне бы твои заботы».
Итак, призрачный лучик надежды, до последнего момента теплившийся на дне моей души, погас. Прощай, мечта о воле!
В ожидании этапа в пересылку всех нас, человек сорок, рассчитавшихся за постой в «Крестах», сгрудили в одну из камер первого этажа корпуса, впритык друг к другу. Не помещавшихся вдавливали коленями и сапогами…
Последние часы пребывания в «Крестах» тюремное начальство постаралось сделать особенно памятными.
Около пятнадцати часов продержали нас стоя, прижатыми друг к другу настолько плотно, что нельзя было повернуться…
За все время ни разу не вывели на оправку. Люди обливались потом… Не хватало кислорода… Кто не мог терпеть, мочились под себя. Вонь стояла несусветная! А тут еще начальство тюрьмы распорядилось накормить баландой, причитавшейся нам согласно рациону и недоданной в этот день.
И люди ели.
Ели, несмотря на духоту и вонь, ели, потому что хотелось есть и потому что не знали, где и когда дадут пищу в следующий раз.
По поднятым над головами рукам передавали друг другу миски с баландой. Кому досталась ложка, ставил миску себе на голову и ел ложкой, кто просто хлебал через край — держать миску нормально на уровне груди не позволяла теснота.
Спал ли кто-нибудь из нас в эту душную августовскую ночь, не знаю… Если и спал, то наподобие лошади, стоя.
В эту последнюю ночь в «Крестах» я впервые изменил привычке после отбоя провожать каждый прожитый тюремный день (безликий, как и его близнец предыдущий) своеобразной молитвой: «Еще одним днем ближе к свободе!» Увы! Свободы не получилось.
Справедливость торжествует в книгах — там воля автора. В жизни — другое…
Не суждено мне было наяву испытать радость освобождения, не однажды являвшуюся мне в зыбких тюремных снах, бередивших душу при пробуждении.
Надежда исчезла, испарилась, «как дым, как утренний туман…». Растаяла, как льдинка, оставив на теплой ладони сочувственный след — поникшие лепестки ромашки, прощальный подарок сумасбродной тюремной врачихи.
Было до слез жаль себя. Слезы — это всегда облегчение, они придут потом. Сейчас их не было. Была дикая, терзающая душу боль отчаяния. Рушились остатки веры.
Я прощался не только с «Крестами». Я прощался с собой прежним. Доверчивый ко всему и ко всем, наивный паренек, романтически воспринимавший мир, повзрослел. Завтра из тюрьмы уйдет совсем другой человек, хлебнувший горя. Переживший арест, издевательства следствия, крушение юношеской веры в справедливость… Первые главы повести об исковерканной жизни прочитаны, пережиты.
Начинается новая страница: этапы, пересылки, лагеря… Ну что ж… На ближайшие годы это и будет моя жизнь.
Сам срок, как и вся процедура его получения, вызывал откровенное презрение. Все происходившее казалось настолько диким, настолько за гранью разума, что вспоминалось как-то не всерьез, как театр чудовищного абсурда. И реакция была соответствующей. Например: на корпусном пятачке тюремное начальство сдавало конвою партию осужденных по ОСО зеков, еще не ознакомленных со сроками.
Энкаведешник с тремя кубарями в петлицах зачитывал приговоры:
— Сидоров!
— Есть!
— Отвечать как положено: имя, отчество, год рождения, статья, срок?
— Владимир Федорович, год рождения 1908-й, статья 58.10!
— Срок?
— Не знаю.
— Восемь лет!
— Премного благодарен. — Общее веселье в толпе зеков. Сидоров смеется…
— Фейгин!
Фейгин скороговоркой:
— Есть Фейгин. Семен Матвеевич, 1904 года рождения, статья КРТД — «троцкист». Срок не знаю.
— Десять лет! — Общий хохот. Фейгин притворно плачет. И т. д., и т. п.