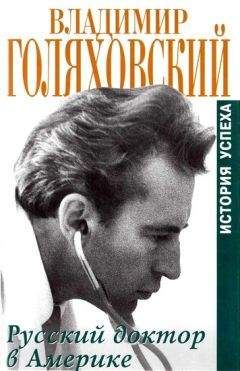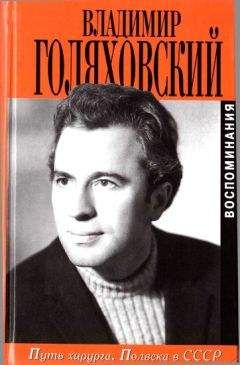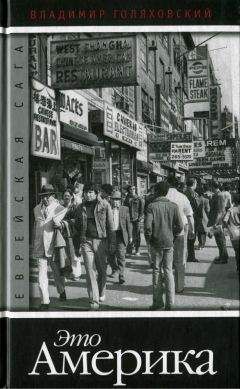— Самое главное, что за десять лет там ничего не изменилось, ничего нового не построено. А то старое, что было, все дома, улицы, площади, — все пришло в дряхлость. «Националь» в запущенном состоянии: мебель паршивая, светильники тусклые, радио не работает, телевизора вообще нет. И обслуживание ужасное. В ресторане нам подавали чай с каким-то сухим хлебом. А бумажные салфетки на столах были разрезаны на восемь клочков. В магазинах — просто пусто. Я ходила в гастрономы, в которых раньше всегда могла хоть что-то купить. Теперь на прилавках ничего нет. Но куда бы меня ни звали в гости — столы везде были на удивление обильно уставлены. Впечатление такое, что у них скатерти-самобранки.
И добавляла:
— Да, дорогой, мы вовремя оттуда уехали…
Действительно, мы вовремя уехали из Союза, и все у нас было бы хорошо, но одно огорчало глубоко — судьба сына, Владимира-младшего. После двух с половиной лет успешной учебы в Медицинском институте он потерял интерес к медицине. Сначала он не сдал один экзамен, но сумел его пересдать, после этого не сдал еще один, по акушерству и гинекологии, попытался пересдать, но ему не зачли. И исключили из института. Правила в американских университетах жесткие: не хочешь или не можешь учиться — сразу уходи.
Очевидно, он сам не ждал такого поворота, в растерянности позвонил нам и сообщил упавшим голосом:
— Меня исключили.
Мы не знали, что у него были осложнения в учебе. Как обычно, он ничего нам не рассказывал. И это была еще одна его ошибка. Может быть, знай мы такое дело, смогли бы ему помочь… Сколько потерянных надежд, сколько переживаний и волнений, сколько потраченных духовных и физических сил! И ведь вступительный экзамен он сумел сдать на высокую оценку, его приняли даже в два института. У него был выбор, и он выбрал медицинский факультет в городе Сиракузы, на севере штата Нью-Йорк.
Морально убитые этой новостью, мы с Ириной в первую очередь испугались за него — чтобы по молодости не сделал какой глупости. Мы знали несколько случаев, когда молодые иммигранты в Америке, раз споткнувшись, кончали с собой или опускались до наркотиков.
Сыну срочно нужна была наша поддержка. Мы сказали, что тут же выезжаем к нему, чтобы он нас ждал. И помчались туда на машине — езды всего пять-шесть часов.
Тревожные то были часы. В дороге мы с Ириной почти не разговаривали, каждый думал свое, но об одном и том же. Эх, дети, дети, сколько от вас радости и сколько огорчений!..
Я уже раньше чувствовал, что медицина его мало привлекает: при редких встречах, когда мы приезжали к нему или когда он приезжал к нам на каникулы, Владимир без энтузиазма говорил об учебе, с неуважением, даже с пренебрежением, рассказывал о своих преподавателях. У меня, как у доктора и бывшего профессора медицинского института, это вызывало душевное страдание. Не может молодой человек учиться будущей профессии безо всякого к ней интереса!
Никто не заставлял Младшего учиться на доктора, он сам захотел продолжать то, что начал еще в Москве, где был студентом-медиком. Но даже если исчезает интерес, опыт жизни показывает, что человек должен уметь добиваться своего при любых условиях. Если ему там не нравилось, то доучиться до конца ему оставалось всего полтора года (в Америке учатся в медицинском институте четыре года после четырех лет учебы в колледже). Простая логика подсказывала, что лучше уйти из профессии с дипломом в кармане и потом заниматься другим делом, чем бросить учебу на полпути. А он вместо учебы гонял на своем «Фольксваген-Гольф», который мы ему подарили после второго курса, чтобы ездить в клиники института. Там нет общественного транспорта. Я знал, что ему хотелось иметь полуспортивную машину, и решил побаловать его. Ничто мне не подсказывало, что эта машина может стать для него заменой учебы. Но что произошло, того не исправить…
Грустной была встреча с сыном. Мы ни о чем его не расспрашивали, не корили, не жалели, только стали успокаивать: жизнь вся впереди и еще многое можно сделать, чтобы чего-нибудь в ней добиться.
Я пытался помочь ему восстановиться, написал письмо к декану факультета и ходил к нему на прием, объяснял, сколько труда было вложено всей нашей семьей, чтобы сын мог стать потомственным доктором. В кабинет вызывали преподавателей сына, их мнения о нем были разноречивы: одни сурово критиковали, другие даже хвалили. Но декан занял жесткую позицию: исключить. Несправедливо? Что же делать! Американцы знают, что однажды сказал их любимый президент Джон Кеннеди: жизнь во многом несправедлива.
Чтобы сыну не болтаться без дела, Ирина устроила его лаборантом в Колумбийский университет, где рядом работала она сама. Так он был занят, всегда с людьми и даже зарабатывал. И она могла хотя бы иногда наблюдать за ним. Поселился сын не у нас, но близко, с моей мамой, обожавшей его бабушкой. У нее была сильная натура, при ней он чувствовал себя спокойнее. А нам она примирительно говорила:
— Ну, ошибся человек, со всеми бывает. Не казнить же его за это!..
Сам он глубоко в душе казнил себя и был мрачно настроен. И у нас с Ириной долгое время было грустно на душе. Эта душевная рана никогда полностью не зажила и оставила грубые рубцы несбывшихся надежд.
Но и до сих пор я сам с собой рассуждаю так: если бы Младший закончил учебу, он, может, и стал бы каким-нибудь доктором, но доктору нельзя быть «каким-нибудь». Не должен врачевать человек, который не увлечен медициной.
Без побуждений и целеустремленности в своей профессии доктор не только не принесет пользы, но может по ошибке и навредить кому-то из своих пациентов. Тогда это вызовет трагедию еще большую, чем исключение из института. Да, мне хотелось, чтобы сын стал доктором, как его дед, я сам, хотелось, чтобы его профессиональный уровень был не ниже моего. Но отводя в сторону родительские соображения, я признаю, что с таким отношением к медицине он не мог стать врачом: не должен врачевать человек, который не увлечен медициной.
По прошествии нескольких лет судьба сына устроилась: он нашел, как говорится, свою нишу в жизни. Занялся научными исследованиями в фирме по производству медицинского оборудования, женился на американке, которая тоже не имеет профессии, они скромно зарабатывают на жизнь своим трудом. А мы время от времени материально их поддерживаем, и с удовольствием. Ведь лучше давать детям из рук пока еще теплых, чем уже холодных. И наша любовь к сыну перешла на троих его детей, наших внуков. Но об этом — потом…
Наступило душное нью-йоркское лето. С июня по сентябрь жители города спасаются прохладой кондиционированного воздуха. Кондиционеры жужжат повсюду — в домах, в машинах, в учреждениях, в вагонах метро и в автобусах. В здании нашего госпиталя была своя сильная система охлаждения, в каждой из двадцати операционных комнат в подземных этажах мы могли регулировать температуру по своему желанию, какую хирургу хотелось. Нам с Френкелем хотелось попрохладней — мы два-три дня в неделю проводили в операционной по шесть — восемь часов, вместе делали четыре-пять операций по илизаровскому методу, кроме того, у Виктора еще были частные пациенты.