Отец родился 25 октября 1875 года. Детство и отрочество его, как я уже рассказывал, прошли в трудной и стесненной обстановке. Отец его (мой дед) умер, когда моему отцу было шесть лет; его мать, судя по всему, относилась к своим детям как к обузе, понимала свое княжеское достоинство как дарованное самим Господом Богом право ничего не делать, вести чисто паразитический образ жизни. Она преспокойно бросила работу и взвалила на плечи шестнадцатилетнего сына все заботы о заработке, материальном обеспечении и ее самой, и двух его братьев и двух сестер. Правда, благодаря такому ее отношению мой отец очень рано получил полную самостоятельность в своих суждениях о жизни, о встречных людях. Это было самое суровое и самое демократическое воспитание, без всяких барских стремлений.
Было бы, конечно, лучше, чтобы в ранних письмах моего отца не попадались такие грустные слова: «Ведь у меня теперь ничего нет, пойми, ничего светлого и хорошего. Дома пилит мама за то, что я отравляю своим поведением ее жизнь; товарищи принуждены были сознаться во всем, и хоть и выпущены, но не весело чувствуют себя: за мной вечно следует сыщик и т. д. и т. д.» (12 октября 1899 года).
В такой мрачности он был не всегда: в другом письме своей Юлике в Петербург он пишет: «Я как‑то ушел в самого себя, мне трудно раскрыть душу даже перед товарищами, я сделался угрюмым и нелюдимым. А прежде, бывало, среди моих товарищей я был самым веселым и беззаботным» (9 сентября 1899 года).
Но он не прав, говоря, что у него нет ничего светлого и хорошего — есть горячо любимая и отвечающая тем же Юлика, которой он той же осенью 1899 года пишет и совсем другие письма:
«Милая Юлика!.. Разве я могу сердиться на тебя? И разве я писал тебе, что сержусь? Нет, нет и нет. Мне было больно, а теперь нет, потому что тебе тоже было больно (я эгоист) и потому что ты своей любовью можешь всякую боль уничтожить. Я теперь счастлив и доволен, потому что последняя соломинка, за которую я было ухватился, оказалась совсем не соломинка, а целый корабль, с теплом, светом, радушием, отзывчивостью и любовью. Я, Юлика, вполне искренне и серьезно говорю, что ты теперь для меня всё. Так скверно было бы без тебя ну, так скверно, что я даже и думать об этом боюсь… Ты, Юлика, напрасно работаешь много при ламповом свете, можно было бы купить и абажур. Но если ты испортишь глаза, сидя за письмами ко мне, то уж лучше поменьше пиши! Хотя… право, я твои письма жду с большим нетерпением: знаю, что ты напишешь и о чем, и все‑таки рад письму и прочитываю по несколько раз.
Н. Ив. [Малинина] выпустили (теперь никого больше нет на Московской), он рассказал мне много интересного: вообрази, меня в чем‑то подозревают, хотят найти каких- то 5 человек, которые, по словам жандармов, ускользнули от них. Они обещаются во что бы то ни стало найти. Черт знает что такое! Эта вечная слежка, аресты на неделю, свидетельства по совершенно незнакомому делу мне ужасно надоели. А главное, университет откладывается все дальше и дальше. За сим желаю тебе всего хорошего. Что сказать тебе еще? Впрочем, ты так хорошо меня знаешь, что все знаешь, что я хочу тебе сказать. Мой поклон всем. Я счастлив! Целую, целую крепко мое «счастье». Мои письма как- то всегда кончаются словами «Милая Юлика». М. 19/Х 99».
Так почти ко всем многочисленным любовным письмам в Петербург, где на лестгафтовских курсах учится моя будущая мать, непременно примешивается самая злободневная политика, непосредственно и лично касающаяся моего отца.
Частные уроки, какие отец начал давать в шестнадцать лет, и работа конторщиком в управлении Рязано — Уральской железной дороги все же дали ему возможность окончить Саратовскую гимназию, а небольшое наследство, о котором я уже говорил, позволило в двадцать один год, в 1896 году, поступить в Московский университет на естественно — исторический факультет (официально он назывался физико — математическим), где преподавались все науки о природе, не только физика или химия, но и зоология, и ботаника, и даже этнография и археология. Уже, видимо, на первом курсе мой отец больше всего увлекся химией, которая, хоть и не сразу, стала главным делом его жизни.
В 1897 году отец перешел на второй курс и с этого времени потерял всякую власть над ходом и содержанием своей собственной жизни. Потерял надолго — до 1930 года (с небольшим перерывом с 1912–го до 1917 года). Он стал одним из активных организаторов одного из первых социалистических кружков в России — в Московском университете, на втором его курсе. В этом кружке участвовали студенты разных факультетов — так, например, ближайший друг моего отца, как и он, саратовец, Николай Иванович Малинин, поступивший в университет одновременно с моим отцом, был студентом юридического факультета.
Эти молодые бескорыстные и самоотверженные мятежники конца XIX века были по существу такими же романтиками и идеалистами, как и их предки, будь то Огюст Бланки, или руководители Парижской коммуны Делеклюз, Флуранс, Клюзере, или русские бунтари Петрашевский или Желябов. Они так же стремились улучшить, если не радикально изменить, дурное устройство человеческого общества. Разница была в том, что приверженцы распространившихся в девяностых годах по всей Европе и Америке социалистических идей полагали их строго научными, основанными на неопровержимо выверенных знаниях о законах общественного развития. Это было одним из выражений всеобщей глубокой веры в торжество научно — технического прогресса, утвердившегося во всех науках о жизни. Правда, как и раньше, главным было острое чувство социальной справедливости, нарушений которой в России времен Александра III и Николая II было более чем достаточно.
Кружки, подобные тому, что возник в Московском университете, стали началом Российской социал — демократической рабочей партии; вскоре, после раскола, отец стал большевиком и, как мне кажется, не изменил своим юношеским взглядам после произошедшей во второй половине двадцатых годов сталинской контрреволюции, истребившей старых большевиков. Отец уцелел совершенно случайно — на его великое счастье, он в 1926 году был исключен из партии, и про него забыли. Об этом будет речь в свое время.
Во всяком случае, вышло так, что первая половина взрослой жизни моего отца оказалась тесно связана с ходом русской истории, реалии которой слишком часто давяще воздействовали на ход личной его жизни.
Возникновение социал — демократического кружка в Московском университете сразу обеспокоило царскую полицию, и она решила пресечь ее незамедлительно. Первое столкновение с полицией было очень болезненным, несмотря на его глубокую прозаичность.
11 марта 1898 года отец был арестован вместе со всеми участниками кружка и выслан из Москвы в Саратов и посажен в тюрьму на Московской улице, близ вокзала. Похоже, что в саратовскую тюрьму были высланы все участники кружка, не только саратовцы по своему происхождению. Там он просидел 76 дней, подвергаясь непрестанным допросам. После этого был выпущен из тюрьмы и до весны 1900 года находился под неусыпным надзором полиции. Я думаю, что ведший следствие начальник саратовской тюрьмы, жандармский полковник Иванов, особенно пристально присматривался к моему отцу, никак не умея разрешить странную и непонятную загадку, как мог молодой князь оказаться среди этих заговорщиков.
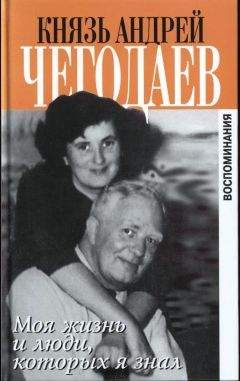
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


