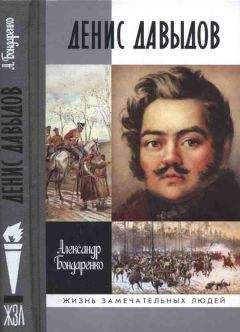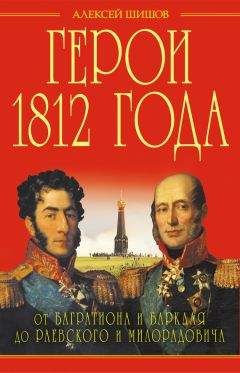Александр Павлович был человеком совершенно иного склада, нежели предшествовавшие ему на троне Павел Петрович и Екатерина Алексеевна — хотя к бабке по своему характеру он был ближе, ибо как она была известной лицемеркой, так и про внука ее говорили, что он «фальшив, как пена морская», но это было позже. Хотя сама Екатерина II давно подметила его страсть к позе и писала: «Господин Александр — великий мастер красивых телодвижений».
Аустерлиц и Тильзит, существенно поколебавшие авторитет государя в обществе, были еще далеко, грядущего создания «военных поселений» никто и предположить не мог, даже граф Аракчеев, по имени которого историки нарекут эпоху «аракчеевщиной», жесткий и безукоризненный исполнитель государевых предначертаний, пока оставался не у дел, высланный Павлом I из Петербурга.
Так что вера в молодого царя была, от него еще многого ожидали… Откуда ж тогда взялась давыдовская ирония? Ответ прост: кавалергарды слишком близко стояли ко двору. Они несли службу в Зимнем дворце, выполняли обязанности адъютантов при монарших особах, присутствовали на придворных балах… Существовал даже термин: «вход за кавалергардов», ибо на празднествах в Зимнем офицеры полка обеспечивали охрану царской фамилии, пропуская во внутренние покои лишь тех, кто имел на то соответствующее право — высших сановников, генералитет. Кстати, «во время выходов кавалергардские офицеры собирались в тех же покоях, где собирались и лица, имеющие „вход за кавалергардов“»[62].
А потому они много чего видели и слышали — тем более что их самих не замечали и, соответственно, не стеснялись: в присутствии замершего у дверей корнета или поручика государь вполне мог продолжать тот щекотливый разговор, который неминуемо прекратил бы при появлении генерала… О том же, что корнет, как истинный верноподданный, впитает в себя все сказанное его монархом и потом обсудит это с товарищами — помните, у князя Волконского: «жизнь наша дневная с впечатлениями каждого», — император вряд ли задумывался. В своей партикулярной{28} жизни Александр I выглядел гораздо менее привлекательным…
Был и еще один момент, который кавалергардские офицеры не могли простить молодому царю: его внутрисемейные взаимоотношения. В 1793 году, когда великому князю Александру Павловичу не исполнилось и шестнадцати, Екатерина II поспешила сочетать его браком с четырнадцатилетней дочерью маркграфа Баденского Луизой Августой, получившей в православном крещении имя Елизавета Алексеевна. В гвардии, конечно, не знали, к каким вредным последствиям для неокрепшего организма Александра привела поспешность заботливой бабушки, но очевидное было налицо: отношения между венценосными супругами были, мягко говоря, натянутые. Даже в обществе император предпочитал появляться с фавориткой Марией Антоновной Нарышкиной — женой обер-камергера, урожденной княжной Четвертинской, нежели со своей супругой… Но если «рогатый» муж обычно вызывает усмешки окружающих, то покинутая жена — сочувствие, в особенности если она молода, хороша собой и умна. Прекрасная блондинка Елизавета Алексеевна с достоинством и смирением переносила нелегкое положение «постылой» жены, а многие гвардейцы были в нее влюблены.
Известно было также, что супругов серьезно развело их отношение к недавнему цареубийству — для Елизаветы Алексеевны оно явилось потрясением, и прощать заговорщиков она не хотела. А ведь и в обществе к свершившемуся злодеянию относились совсем не так однозначно, как это казалось поначалу: истинно православному человеку было просто не понять, как сын позволил убить своего отца! К тому же в сознании дворянина государь являлся «первым дворянином империи» и Божьим помазанником. Так что каков бы он ни был по своему характеру, нраву и склонностям, на то — Господня воля! Да ведь и Павел Петрович был совсем не так плох, как утверждали обиженные и недовольные. Вот что писал блистательный знаток истории Российской императорской армии А. А. Керсновский, кстати, во многом осуждавший Павла:
«Император Павел Петрович является самым оклеветанным монархом русской истории. Его не оценили современники, не поняло потомство, глядевшее на события глазами современников… Император Павел, несмотря на всю свою строгость и вспыльчивость, любил солдата — и тот платил Царю тем же. Безмолвные шеренги плачущих гренадер, молча колеблющиеся линии штыков в роковое утро 11-го марта{29} 1801 года являются одной из самых сильных по своему трагизму картин в истории Русской армии»[63].
В общем, не все было благостно в начале «дней Александровых», а потому давыдовские сатиры оказались очень к месту…
27 октября 1803 года Сергей Марин писал из Петербурга графу Михаилу Воронцову, находившемуся в ту пору в Грузии, в войсках князя Цицианова:
«Давыдов кавалергардский написал две басни, которые я к тебе отправлю с первым курьером, ибо иначе послать их невозможно, и с ними приложу книгу Шишкова»[64].
Басни эти были «Голова и Ноги» и «Река и Зеркало». Острые, смелые, написанные легко и изящно. Так, в первой из них, Ноги, измученные капризами Головы, предупреждают:
Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да между нами, ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть —
Твое Величество об камень расшибить[65].
Во второй басне обыгрывается простонародная пословица: «неча на зеркало пенять, коли рожа крива!» и заканчивается пассаж такими словами:
Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь, и волю дать…
Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать,
А то бы эта быль на басню походила[66].
Далее, по официальной версии, произошло следующее: «Писательские подвиги обратили на него внимание не только товарищей, но и начальства.
Две из его эпиграмм: „Голова и Ноги“ и „Река и Зеркало“ навлекли на него невзгоду, и 13-го сентября 1804 года он был переведен ротмистром в Белорусский гусарский полк, только что тогда сформированный»[67].
По источникам советского времени произошедшее объяснялось гораздо жестче: «Давыдов был удален из гвардии в порядке правительственной репрессии, носившей отчетливо-политический характер. Наказание (достаточно серьезное для того времени официального либерализма) вызвано было распространением в обществе стихотворений Давыдова, квалифицированных в официальных кругах как „возмутительные“»[68].