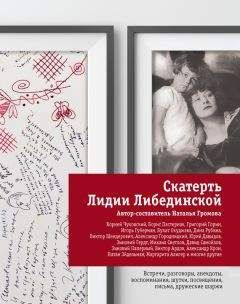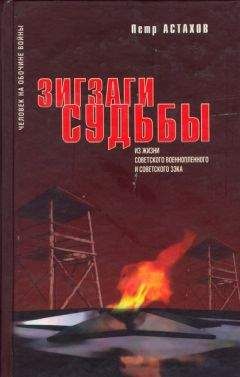— А я вот не доживу до развернутого коммунизма.
Причем в его голосе можно было уловить злорадство, несомненное, но неуловимое.
* * *
(1934) Кисловодск, лето.
Однажды шел со мной, Левиным и Герасимовой. Навстречу шли дети из детского сада попарно. Корн. Ив. нагнулся, присел, загородил им руками дорогу и сказал своим сладко-крокодильим голосом:
— Деточки, деточки, а кто ваш любимый писатель?
— Маршак! — вдруг хором ответили деточки.
Только полсекунды можно было наблюдать легкую тень растерянности на лице К.И. В том же тоне, почтительно и ласково, он сказал:
— Не надо, детки, читать Маршака. Читайте Чуковского. Вы читали Чуковского?
— Читали! — ответили ребята.
— Читайте Чуковского.
Над всем этим высилась, изображая одновременно вопросительный и восклицательный знак, бесцветная руководительница детей, обратившаяся в соляной столп.
Борис Левин. Сер. 1930-х * * *
Когда К.И. надо было пройти куда-либо без очереди или с передней площадки, он наспех навинчивает себе орден. Когда надобность прошла, он незаметно его свинчивает и кладет в карман, в точности воспроизводя жест крещеного еврея, который, когда его задержал в Москве полицейский, требуя документы о правожительстве в Москве, вынул из кармана крест [12] …
Корней Чуковский. Кон. 1950-х * * *
Время действия 1938 или 1939 год. Шевченковский пленум [13]. Место действия — Шевченковский пароход, идущий из Киева в Канев. На палубе мимо кают, у которых окна открыты и опущены только жалюзи, не пропускающие света и пропускающие звук, идут четыре «умных» еврея: Гурвич [14], Левидов [15], Бялик [16] и, кажется, Боровой [17].
Левидов громко возмущается:
— Нет, выпустить такого пошляка на трибуну всесоюзного пленума! Ведь это сплошной поток пошлости.
— Но вы преувеличиваете! — оспаривает Гурвич. — Конечно, ничего нового он не сказал, он всегда был склонен к вульгаризации.
— О ком вы говорите? — спросил я.
— Ну, о ком, — раздраженно сказал Левидов, — конечно, о Чуковском.
И только что он произнес эту реплику, как жалюзи с грохотом падает и из окна каюты со зловеще-иронической улыбкой и скрещенными на груди руками обнаруживается Корней Иванович. Немая сцена, продолжающаяся несколько томительных секунд. Пароход продолжает нас нести мимо днепровских берегов. Молчание, невыносимое для всех, кроме К.И., который явственно этим наслаждается, пытается нарушить Абраша Гурвич. Он пытается сделать вид, что ничего серьезного не произошло, и с прежней солидной интонацией, которая сейчас стала смешной, продолжает:
— Но при всей вульгарности его построений у него есть некоторая примесь таланта…
А. Н. Толстой. Сер. 1930-х
Смущение сдавливает его глотку, слова произносятся со скрипом, и он останавливается на полуслове. Тогда К.И., насладившийся всем происходящим, говорит любезно-иронически:
— Пожалуйста, пожалуйста, сам неоднократно бывал в таких положениях.
«Умные» евреи молча прошли мимо его окна. Валя Герасимова, стоявшая рядом со мной у перил и бывшая со мной свидетельницей этой сцены, спрашивает:
— Ну, Корней Иванович, зачем это вы показались? Ну прошли бы они мимо. Ну что вам?
— Я ужасно не люблю, когда обо мне за глаза говорят плохое. Предпочитаю, чтобы правду-матку, — он сказал это иронически. — Плохое обо мне — говорили при мне.
* * *
Однажды накануне какого-то парада я взял билеты на трибуну для ленинградских писателей. Я жил в центре на ул. Рубинштейна (б. Троицкая), и всем было удобно брать билеты у меня. Я их оставил в вестибюле, у нашего швейцара, очень толкового уже пожилого мужичка, которого мы все звали Лука, т. к. в своих интонациях он имел сходство с горьковским Лукой. А. Н. Толстой заехал за билетами и, подойдя, сказал Луке:
— Мне билеты оставлены?
— Пожалуйста! — сказал Лука, быстро оглядев его и роясь в конвертах. — Лев Николаевич будете?
— Почему Лев Николаевич? — опешил Толстой — Я Алексей Николаевич.
— Братец будете? — с успокоительной интонацией произнес Лука.
На это Алексей Николаевич ничего не ответил, взял билеты и ушел.
* * *
В. Ермилов [18] пьяным пришел домой вместе с Павленко [19] на Лаврушинский. Павленко пытался доставить его наверх по лестнице. Сели в лифт. По дороге лифт испортился. Ермилова оставили и вызвали жену его вести домой. Но жена не смогла его вытащить и оставила в лифте. После 12 везде погасили электричество, и часа в 4 ночи Ермилов очнулся, лампочка чуть-чуть освещала окружающее. Ермилов увидел сетку и почувствовал себя запертым в клетку. Испугавшись, начал выть звериным голосом. Все спали: пока сбежались, он чуть не сошел с ума.
Наконец пришла жена и увела его домой.
Петр Павленко. Сер. 1930-х * * *
Бунин был, как большинство писателей, либерал, чуть ли не социалист, но он постоянно подчеркивал чистоту своей крови, происхождения, но делал это деликатно.
* * *
Свирский [20] рассказывал, как Бунин читал «Анну Каренину», перечеркивал, исправлял.
— Что Вы делаете?
— Сокращаю, слишком растянуто. Можно превратить в маленькую повесть.
* * *
Павленко говорит про художественное произведение: — Это говно, но это еще не то, что нам надо.
* * *
В 1924 году в период организации ЛЕФ, кажется, Шершеневич [21] сказал Маяковскому в публичном месте, кажется, в консерватории или на премьере. Я был в публике.
— Поздравляю вас с законным бриком!
Слова эти облетели всю публику.
24/II. Вчера говорили о Брике и Маяковском, сегодня узнали о смерти А. Н. Толстого и О. М. Брика.
* * *
Был у меня приятель в 1937 году. Прислал он мне сценарий, плохой. Отрецензировал, отправил автору. Через несколько времени рукопись возвращается обратно с надписью, что адресат не разыскан. Внизу приписка чьей-то рукой «адресат сидить».
* * *
Был период, когда В. Герасимова была замужем за А. Фадеевым. Фадеев любил выпить. С этой точки зрения она не одобряла его времяпрепровождение с А. Н. Толстым.
— С А.Н. вместе вы представляете собой глубоко национальное явление: гуляка-барин и гуляка-мужик. Я представляю себе такую картину: на балкон выходит А.Н., заспанный в халате, а внизу у балкона стоишь ты, знаешь, бывают такие тощие парни в посконных брючонках, в каких-нибудь опорках, но с чрезвычайно лихим видом.