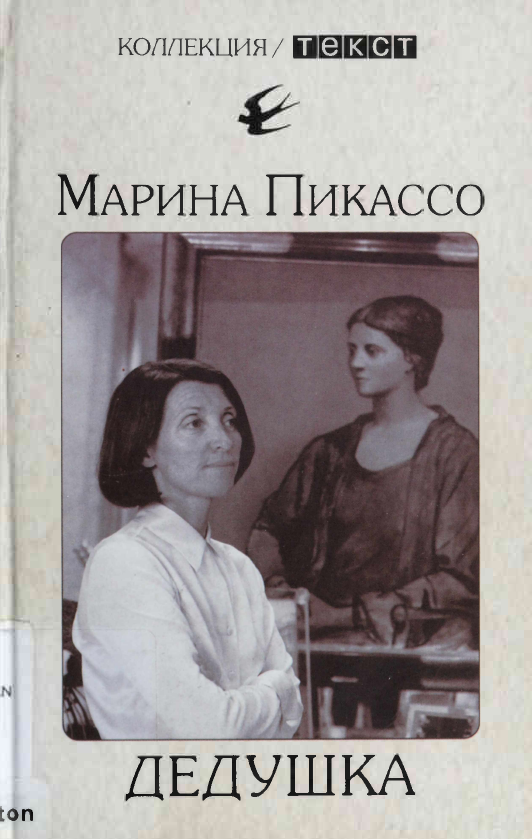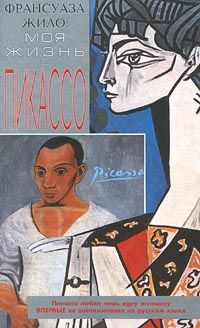в складках плаща. Вот его правый рог оцарапал Домингену грудь. Бык и человек сливаются в одно. Человек безошибочно применяет различные приемы: вероники, манолинетас, паронес — опасные, великолепные, безупречно точные.
— Olle!
— Anda!
Вся арена, la plaza del toros, площадь корриды, вскакивает и скандирует при каждом выпаде.
Ликующий Пикассо надрывает глотку:
— Para los pies! Anda, Luis Miguelito! [6]
Он наклоняется к Паблито, ерошит ему волосы.
— Niño (детка), — объявляет он со смехом, — parar, templar, mandar — вот три столпа тавромахии. Parar — не переступай с ноги на ногу. Templar — мулетой надо помахивать медленно, и mandar — с помощью мулеты овладей быком…
Повернувшись к Кокто, он бросает ему, указывая на моего брата:
— Взгляни на него, Жан, он станет тореро!
— Parar, templar, mandar, — бормочет Паблито, и глаза его полны звезд.
Дедушка удостоил его внимания. Теперь надо показать себя достойным.
Отец наклоняется ко мне:
— Все хорошо, Марина?
Я смеюсь счастливым смехом.
Все хорошо. У меня есть семья.
Звук горна — сигнал к началу первого акта: la suerte de varas.
Suerte de varas — испытание пиками.
Подбадриваемые гиканьем толпы, пузатенькие, такие чванные в своих расшитых золотом туниках, на ристалище выходят пикадоры. Лошади, спотыкаясь под их весом и под тяжестью стеганых попон, ковыляют к месту, предназначенному для них в церемонии: оно обозначено на песке известью.
Им завязали глаза.
— Это чтобы они не пугались, — объясняет мне Пауло, отец.
— Ничтожество даже смерти неинтересно, — перебивает его Пикассо. — На арене важна только смерть быка.
Дань уважения Минотавру, плотоядному гиганту.
В темном углу, в своем любимом месте, бык роет копытами песок.
На площадку выходят пеоны. Размахивая плащами, они наступают на быка, провоцируют его на схватку. Толпа неистовствует, поощряя пеона, возбуждая быка:
— Anda toro! Anda! — Выходи, бык! Выходи!
Ноздри зверя брызжут пеной ярости.
Один из пеонов, тот, что посмелее, бесстрашно входит в тот уголок, где затаился зверь.
Время остановилось.
Бык приседает на задние ноги, его ноздри втягивают воздух, рога яростно вздеваются к небу. Он бросается, стремительный, как молния, запутывается в складках плаща, которым размахивает перед ним пеон, кидается прямо вперед, делает выпад и снова запутывается в плаще, скользящем по его бокам.
Перед ним пикадор и — совсем близко — лошадь, встающая на дыбы. Пауза, передышка и снова выпад. Усилием всего крупа лошадь словно отрывается от земли, почти перескакивая через барьер. Сила удара заставила ее осесть на задние ноги, но она устояла. Путаясь в ткани, бьющей его по бокам и мешающей нанести удар, бык ищет момента, чтобы вспороть ей брюхо. Сокрушительные удары тут же предупреждает пика пикадора, глубоко вонзающаяся в горб из мускулов, внезапно выросший на шее зверя. Гейзером взвивается фонтан крови. Багровой. Ужасающей. Снова вздымается пика, снова сталь кусает бычью плоть, и бык натыкается на нее всей тушей. Еще глубже. Снова и снова удары пики. На жаргоне искусства тавромахии эти чудовищные минуты называются «карой».
Кара за что? За то, что оказался заложником человеческой бесчеловечности? За то, что возбуждает их варварские наклонности? Их жажду власти? Чтобы придать людям ту цену и тот вес, которых у них нет? Чтобы однажды оказаться на картине: «Натюрморт с черепом быка», «Герника», «Минотавр», «Минотавромахия»?
Вдали опять звучит горн. На площадке уже нет пикадоров.
Я уничтожена.
Меня слишком долго кололи пиками.
Оставшаяся часть зрелища уже не интересует меня. Как не интересуют меня больше ни публика этого гладиаторского боя, ни Пикассо, обстреливаемый фотографами, ни отец, потягивающий из уж не знаю какой по счету бутылочки пиво, ни мать, которая, конечно, сейчас хохочет со своими шалопаями, ни расфуфыренный шут Кокто, ни Жаклин под своей черной шалью.
Я уже не чувствую укола копья бандерильо. Словно прокручивая фильм с конца к началу, я воображаю быка во всей красе без этих кровавых петель, осквернивших его шерсть, без этих гарпунов, свисающих с его шеи. Я хочу, чтобы барьеры улетучились, ступеньки исчезли, а всех тореро вместе с боготворящей их публикой унес ветер. Я хочу, чтобы бык снова бегал в поле среди своего стада…
И чтобы этой корриды никогда не было.
Упрямо продолжая держаться на ногах, бык ждет последнего акта: faena, умерщвление.
Доминген оскорбляет его, с подчеркнутой надменностью поворачиваясь к нему спиной и лицом к амфитеатру. Приподнимая шляпу, он взмахивает ею, глядя прямо на Пикассо. Он дарит ему смерть.
Толпа хлопает в ладоши и ревет, и тут Паблито испуганно прижимается ко мне.
Я обнимаю его за плечи.
Мне тоже страшно.
Словно два попугайчика-неразлучника, способные выжить только парой, мы срослись с ним, рука в руке, щека к щеке. Мы отказываемся разделять с людьми их низость.
До нас долетают крики «оле», пронзительные свистки. А нас охватывает такая скорбь, словно огонь с неба обрушился на наши головы.
— Как ты думаешь, ему будет очень больно? — шепчет мне Паблито.
Крики «ура», аплодисменты и звуки горна. Мы с Паблито боязливо поднимаем глаза. На желтой охре площадки бычья кровь.
Он мертв. Свободен.
С президентской трибуны машут белым платком. При этом сигнале Доминген приближается к туше быка, ударом кинжала отсекает ухо и бросает его моему дедушке.
Я часто вижу его во сне, это окровавленное ухо. Я вижу его на ступеньке под нашими с Паблито ногами. Прядь липкой шерсти, невыносимо красная, с желтеющим хрящом.
Дань почтения дедушке.
Великому страдальцу за человечество.
С самого Арля у нас нет никаких вестей от отца, и, конечно, мы не виделись с дедушкой, который определил нас в разряд бесконечно малых величин.
И тем не менее мы Пикассо, как и он. Пикассо, на которых показывают пальцами.
— Смотри-ка, эти малыш с малышкой — внучата Пикассо.
— Художника-миллиардера?
— А ты знаешь другого такого?
Внучата художника-миллиардера, мы влачим нашу нищету по пустынным переулкам Гольф-Жуана.
Лето кончилось. Первые осенние деньки разогнали отдыхающих. Опустевший пляж, пустые жаровни ресторанов, тоскливое померкшее солнце.
Время мелькания ранцев у школьных дверей.
И вновь наша мать все решила за нас. Она записала нас в протестантскую школу в Канне.
— Как-никак, — сказала она нам, — это коллеж приличный.
Она поддерживает репутацию.
Звонок будильника. Половина седьмого. Сама еще не проснувшись толком, я встаю, тормошу Паблито:
— Быстрее, а то автобус упустим.
Он поднимается, словно зомби, ощупью находит рубашку и штанишки, натягивает их в полусне и догоняет меня уже в ванной. Мы умываемся, стараясь не шуметь. Наша мать еще спит.
На завтрак времени нет. По правде говоря, его хватает только на то, чтобы наскоро причесаться,