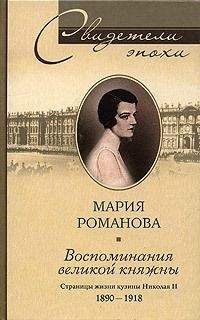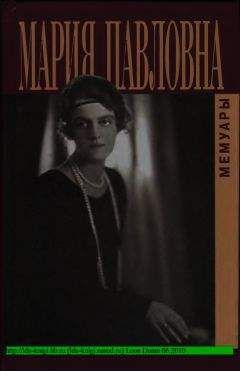Под давлением массы народа мы с Дмитрием потеряли почву под ногами, нас подняло и понесло в сторону от остальной группы, бросало из стороны в сторону неуправляемыми колебаниями толпы, которая могла затоптать нас насмерть, если бы дядя, увидев наше исчезновение, не остановил всех и не послал полицейских на поиски. Они нашли нас и возвратили назад, вытащив из вздымающейся людской волны.
Мой жакет был разорван, на теле – синяки, но никаких серьезных повреждений. Император был заметно тронут этими знаками почитания и выражением верноподданнических чувств москвичей.
Я помню, что сама была взволнована этим всеобщим восторженным состоянием и тайно мечтала, чтобы мне представилась возможность доказать свою преданность моему монарху. Дядя был счастлив, что все окончилось хорошо; город, за который он нес полную ответственность, показал себя достойным такого случая. Народ, пусть и необузданно, спонтанно продемонстрировал свою верность царю; политический горизонт, казалось, был во всех отношениях безоблачен.
После отъезда императора и императрицы мы уехали в Ильинское. Теперь здесь, как и в других местах, мы учились, и лето нам уже не казалось такой идиллией, как раньше. Я тосковала по своему отцу и часто разговаривала о нем с дядей. Его ответы на мои вопросы были терпеливы, но лишены сочувствия. Говоря об отце, он не критиковал его явно, но отзывался о нем в каком-то ревнивно-снисходительном тоне, который глубоко ранил меня.
Прошел год с того дня, когда отец был выслан из России. Его брак остался непризнанным. У его жены не было ни имени, ни титула. Но однажды, ближе к концу лета, после не известных нам обсуждений, дядя Сергей сказал, что мы можем поехать повидаться с отцом. Эта встреча должна была состояться в Баварии на вилле моей тети Марии, княгини Саксен-Кобургской.
Дмитрий и я уехали из Ильинского вместе с дядей, тетей и некоторыми другими сопровождающими, среди которых были мадемуазель Элен и генерал Лайминг.
Отец, как предварительно было условлено, беседовал с нами один. Он очень много говорил и обращался со мной почти как с равной себе, пользующейся его доверием. Но его рассеянный, озабоченный вид тронул меня до глубины сердца. Я решилась было спросить его о его жене, но какая-то необъяснимая робость удерживала меня. Наконец я собрала все свое мужество и, опустив глаза, произнесла тихим дрожащим голосом фразу, которую подготовила заранее.
Отец, который до той минуты ни разу не произнес в моем присутствии имя своей жены, был удивлен и явно тронут. Он поднялся, подошел ко мне и взял меня на руки. Эта маленькая сцена связала нас вместе навсегда. С того момента, несмотря на мой возраст, мы стали союзниками, почти сообщниками, и усилия дяди привязать меня к себе, отделить меня духовно и реально от моего собственного отца, не могли не потерпеть неудачу.
Братья обменялись мнениями по этому поводу во время нашего пребывания там, и их беседа закончилась, когда дядя, пожав плечами, заявил, что он считает себя обладателем всех прав, от которых отказался мой отец. Это была не пустая похвальба; он и в самом деле обладал полными правами опекуна и осуществлял эти права, не считаясь с желаниями моего отца ни по какому вопросу. И отец, хотя он очень тяжело страдал от такого положения вещей, был совершенно бессилен что-то изменить.
Наше временное пребывание в Тегернзее было чудесным, это было очаровательное место. Моя тетя, Мария Саксен-Кобургская, несмотря на резкую манеру общения, была человеком жизнерадостным, с ироничным характером. Она никогда не скрывала своего мнения и всегда говорила что думала, – это было редкостью среди нас. И хотя ее поддразнивали из-за горделивой манеры держаться, братья питали к ней большое уважение. Я до сих пор вспоминаю ее сидящей в большом кресле с каким-нибудь бесконечным вязаньем в руках и глядящей поверх очков на суету и интриги своего окружения. Она видела все и судила обо всем с какой-то невозмутимой насмешкой.
В начале зимы, когда мы устраивались в генерал-губернаторском дворце в Москве, отец письмом сообщил о рождении своей дочери Ирины. Позднее я узнала, что мой отец хотел, чтобы я была крестной матерью своей маленькой сводной сестры, но дядя, с которым он был обязан советоваться, не хотел об этом и слышать.
Той зимой мы обосновались в Москве, и для нас началась новая жизнь. Для меня и моего брата дядя собрал целый штат педагогов, а также пригласил священника, так как религиозное воспитание играло важную роль в формировании личностей великих князей.
Этот священник был стар. У него была желтая борода, и от его одежд исходил какой-то несвежий запах. Его принципы в точности совпадали с дядиными. Он был ярый монархист, представляющий Бога как абсолютного властелина Вселенной, и отождествлял религию с чем-то вроде жесткой бюрократии, контролирующей каждую мелочь в жизни.
Мы с Дмитрием сразу же невзлюбили его. Скучная и неприятная наружность, бесконечные однообразные уроки, гнусавый голос доводили нас до крайней неприязни, и через несколько месяцев мы почувствовали, что он невыносим.
Мы пожаловались дяде. Он строго отчитал нас за недостаток почтительности. Уроки продолжались. Наконец я дошла до крайности и пожаловалась в письме отцу. Результат этой переписки не был для меня благоприятен. Дядя позвал меня в свой кабинет, выразил недовольство моими действиями за его спиной и вновь сделал мне строгий выговор. И только после смерти дяди нас наконец избавили от этого бедного священника, который обладал над нами единственной властью – раздражать нас однообразными наставлениями, связанными с политической иерархией.
Дядя следил – или ему казалось, что он следит, – за нашим образованием. Он вникал в малейшие детали нашей повседневной жизни. Его любовь к нам, его желание помочь нельзя было отрицать. Но – увы! – его трогательные усилия часто оказывали на меня действие, абсолютно противоположное ожидаемому. Это был человек тяжелый в своих привязанностях и чрезвычайно ревнивый.
Та изоляция, в которой всегда жили мы с Дмитрием, теперь стала еще больше. Раз или два мадам Лайминг приходила лично просить дядиного разрешения отпустить нас к ним на ужин, но его согласие было столь нелюбезно, что она не осмеливалась больше обращаться к нему с такой просьбой. Постепенно мы становились все более и более отрезанными от мира и все более одинокими.
Глава 6
Тысяча девятьсот пятый год
Мне кажется, что тогда мир был озабочен политической ситуацией на Дальнем Востоке и вероятностью войны с Японией. Если нам и разрешали слушать подобные разговоры, то я об этом не помню. Но когда в конце января 1904 года война была на самом деле объявлена, мы отправились с дядей в Успенский собор Кремля, где я услышала «Те Деум». Мне до сих пор слышится голос архидьякона, глубокий и дрожащий от волнения, когда он читал в конце службы манифест.