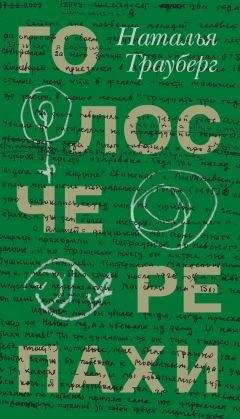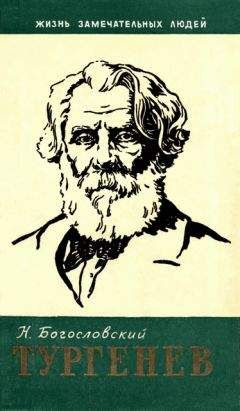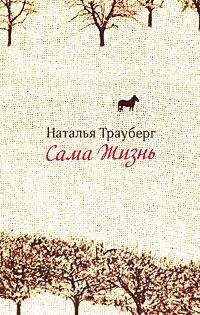П. Г. Вудхауз
Несколько слов о юморе[14]
Внимательный читатель, конечно, заметил, что рассказы мои, в сущности – юмористические; и теперь самое время предложить ему очерк о юморе, который просто обязан рано или поздно написать каждый член нашей гильдии.
В XVI веке «юмор» определяли как «смущение в крови» и, хотя делали это, скорей всего, из вредности, не так уж ошибались. Правда, я бы сказал «смещение». Чтобы стать юмористом, надо видеть мир не в фокусе, другими словами – страдать небольшим косоглазием. Тем самым, вы относитесь несерьезно к очень важным установлениям, а люди хотят в них верить и тоже смотрят на вас искоса. Статистика говорит нам, что 87,03 % косых взглядов обращены на юмористов. Солидный человек все время боится, как бы мы чего не выкинули, словно нянька, чей питомец проявляет склонность к преступности. Возникает та напряженная неловкость, какая царила в замке, когда по нему бродили шуты. Полагалось их как-то использовать, но особой любви они не вызывали.
– И что он порет? – шептал жене король или, скажем, граф. – А ты еще его подначиваешь! Вот утром, с этими воронами…
– Я просто спросила, сколько ворон уместится в жилете бакалейщика. Так, для разговора.
– А что вышло? Звякая, как ксилофон, он покрякал – ненавижу эту манеру! – и ответил: «С утра – добрая дюжина, а если светит Сириус – поменьше, роса вредна при цинге». Ну, что это такое?
– Это юмор.
– Кто тебе сказал?
– Шекспир.
– Какой еще Шекспир?
– Ладно, Джордж, успокойся.
– В жизни не слышал ни про каких Шекспиров!
– Хорошо, хорошо. Неважно.
– В общем, ты ему скажи, чтобы он ко мне не лез. А если еще раз треснет этим поганым пузырем, я за себя не отвечаю.
Юмористы чаще всего – люди мрачные. Причина в том, что они ощущают себя изгоями или, скажем так, экземой на теле общества. Интеллектуалы презирают их, критики – кое-как терпят, ставя вне литературы. Люди серьезны, и на писателя, не принимающего их всерьез, смотрят с подозрением.
– Вам все шуточки, а Рим-то горит! – укоризненно замечают они.
Лучше бы жалеть юмористов, лелеять, они ведь очень ранимы. Огорчить вы их можете в одну секунду, спросив: «Что тут смешного?», а если все-таки засмеялись – сказав, что они, в конце концов, «просто юмористы». Слова эти бьют их наповал. Засунув руки в карманы, выпятив губу, они поддают ногой камешки, сопоставляя свою участь с участью бродячей собаки.
Вот почему в наше серое время трудно найти смешной рассказ, не говоря о пьесах. Драматурги соревнуются в мрачности. Поскольку десять пьес из двенадцати с треском проваливаются, можно предположить, что они неправы. Если бы поступившись весом важностью, они стали помягче и повеселей, всем было бы лучше. Нет, я не против кровосмешений и безумия, но всему – своя мера. Смех тоже не повредит.
В театре давно уже не смеются. Там слышишь только тихий, свистящий звук, который издают встающие дыбом волосы, да резкое кряканье, когда актеры произнесут одно из тех коротких слов, какие прежде употребляли в кабаках низшего пошиба. Вспомнить смешно, что когда слово «черт» впервые прозвучало на Нью-Йоркской сцене (если не ошибаюсь, в пьесе Клайда Фитча), поднялось Бог знает что, вызвали полицию, а может – и войска.
Конечно, переход будет медленным и нелегким. Поначалу, услышав смех, зрители решат, что кому-то стало плохо, и зашепчутся: «Врача, врача!» Но понемногу привыкнут, и мы снова ощутим в зале не похоронную атмосферу, а что-то более приятное.
Самый печальный юмор в наши дни, я думаю, русский. Чего вы хотите? Когда живешь в стране, где всю зиму надо тереть снегом посиневший нос, особенно не разрезвишься, даже при помощи водки.
Хрущева, по-видимому, считали заправским шутником (тот, кто так не считал, живя при этом в Москве, таил свои чувства), но ограничивался он эйзенхауэровской шуткой о гольфе и русскими поговорками. Если есть на свете что-то безрадостней русской поговорки, прошу мне об этом сказать. «У нас, – сообщал он своим соратникам, – говорят: курица переходит дорогу, а умный человек боится разбойников». Тут лицо его трескалось поперек, глаза исчезали, как устрицы, когда их тушат – и соратники догадывались, что если на секунду запоздают со смехом, следующая их работа будет в Сибири. Может быть, придет время, когда Россия обратится к историям о муже и жене или двух ирландцах на Бродвее, но я в этом не уверен.
Перечитал – и заметил, что, по забывчивости, так и не определил, что такое юмор. (Авторы и лекторы вечно спрашивают: «Почему мы смеемся?» Если я отвечу, хорошенький у них будет вид!) Итак, определить я забыл. Лучше приведу слова из книги д-ра Эдмунда Берглера «Чувство юмора».
Вот, пожалуйста: «Смех – защита против защиты. Обеими реакциями мы обязаны неосознанному эго. Жестокость суперэго снимается тем, что мы обращаем кару в удовольствие. Суперэго упрекает эго и за такую подмену, а это создает новую защиту, образуя тем самым триаду, в которую входит смех».
То есть как – непонятно? Ну, знаете! Молодец, Эдмунд. Так и держи, и не дай тебе Бог засмеяться.
* * *
Отец Саймон – нынешнее светило Ордена Проповедников.
Начиная с самого св. Доминика (†1221), через св. Фому (родился через четыре года, а по другим предположениям – через пять лет), так и идет какая-то цепочка светильников. Поражают они не только мощью ума – это профессиональная необходимость, а раз надо, Бог дает – но и какой-то особой бесстрашностью, евангельской свободой. Правда, corruptio optimo pessima – именно доминиканцы в страшной Испании XVI века совершенно не по-христиански покусились на дух других людей, и оправдать этого нельзя, можно только каяться. Потом бывало разное, и в XVIII веке цепочка едва светила, но, начиная с Лакордэра (1802–1861), сверкает вовсю. Отец Тагуэлл преподавал в Оксфорде, сейчас он – в Риме, в Папском Институте св. Фомы Аквината, который называют «Angelicum». Занимает он и «важный пост» в ордене, ведает всеми его архивами. Когда он еще был в Англии, летом 1983 года, отец Жак Лев передал старой русской доминиканке запись его бесед о блаженстве, и очень скоро их перевод уже ходил в самиздате. Когда первые четыре экземпляра (столько закладывалось в машинку) пошли по Москве, буквально сокрушая – одних, выводя из себя других, не подозревавший об этом Тагуэлл кончил и выпустил книгу «Пути несовершенства». Простота и истинность его слова поражают, в самом прямом смысле. Примеров – много. Но что говорить, читайте сами.
Наталья ТраубергСаймон Тагуэлл
Отцы – пустынники[15]
Не совсем ясно, как и когда возникло христианское монашество, но миф о том, что началось оно в Египте со св. Антония (†356) и других пустынников, верен хотя бы в одном: именно к ним обращались за вдохновением следующие поколения монахов. Кассиан, истолковавший Египет для Запада, и довольно бесформенное собрание историй и речений, известное под именем «Патериков», питали монахов и всех тех, кто хотел вести истинно христианскую жизнь. Даже там, где нет прямых отсылок, нетрудно угадать влияние пустынников. Например, в житиях ирландского монаха Канисия два примера послушания взяты, без всякой ссылки, из патериков. К тому же источнику восходят бесчисленные примеры средневековых проповедников, и те же самые отцы побудили Екатерину Сиенскую стремиться в юности к отшельнической жизни.