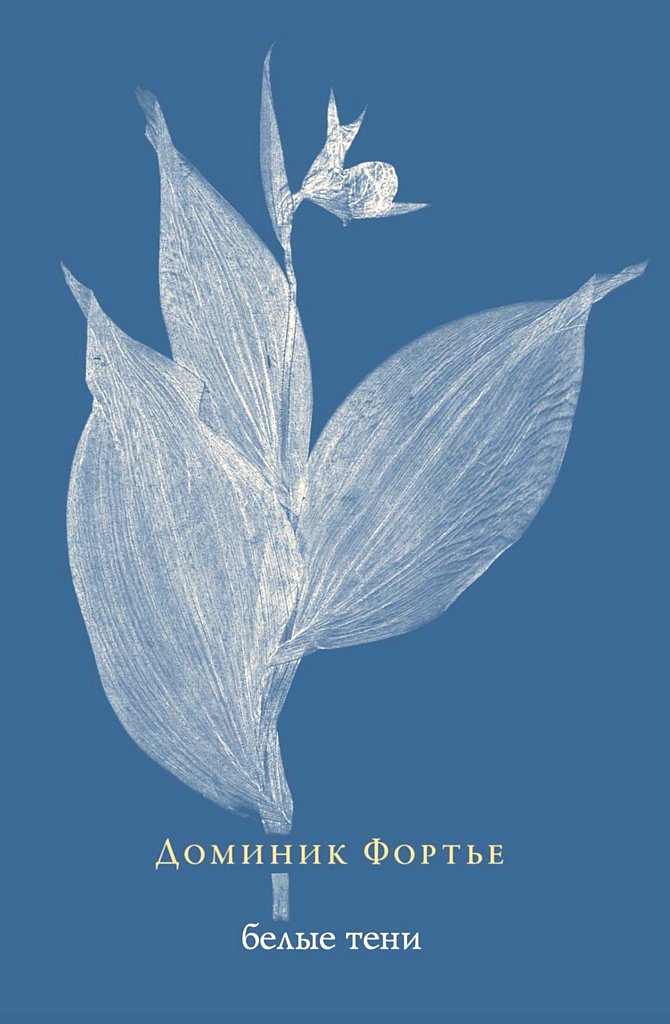поглотила их, а может, где-нибудь в дальнем углу сада растет дерево, цветущее маленькими фарфоровыми цветами, белыми и синими?
Сьюзен почти отчаивается:
— У нас не получится, многих не хватает.
Но Лавинию трудно вывести из себя. Она пробует уменьшить окружность, передвигает осколки, пытаясь присоединить их друг к другу. Но они явно не подходят. Наконец останавливается.
— Можно было бы склеить вот эту часть, — подсказывает Сьюзен, указывая на полдесятка осколков, которые хоть как-то получается подогнать один к другому. — Все-таки лучше, чем ничего.
Но Лавиния сгребает все кусочки, кроме одного, снова складывает их в платок, завязывает его концы и выходит, чтобы похоронить у подножия яблони.
Возвратившись, она берет в шкафу тяжелый пестик, которым обычно измельчает специи, и решительно раскалывает на крошечные фрагменты оставшийся на столе черепок. Сьюзен вздрагивает от неожиданности и изумленно на нее смотрит. Лавиния выбирает один кусочек в форме тоненького полумесяца, вкладывает его в медальон, который всегда носит на шее; еще один осколок, слегка напоминающий треугольник, протягивает Сьюзен, затем идет кипятить воду для чая.
— Иногда, — произносит она, отмеривая щепотку листьев, чтобы положить в чайник, — прилагаешь столько усилий, чтобы починить какую-нибудь вещь, а проще было бы ее сломать и все.
~
Когда Лавиния думает об Эмили, о Гилберте или о кузине Софии, умершей в пятнадцать лет, они видятся ей совсем юными или в расцвете сил, беззаботными, как щенки. Но она знает, что на самом деле все не так, все гораздо лучше, их хрупкая плоть разрушилась, кости стали гладкими, как клавиши рояля, волосы тонкими, как паутинки, их сердце, легкие, белки глаз и розовая мякоть пальцев соединились с землей, они питают нежную траву, они стали ивой, липой, смоковницей, они служат жилищем для птиц, а их длинные протянутые руки достают наконец до звезд.
В саду на закате дня светлячки вычерчивают подвижные гирлянды, которые танцуют какое-то мгновение и тут же тают. Лавиния смотрит на них из окна кухни, она не дает выйти кошкам, чтобы те не потревожили фей. Поднимаясь через несколько часов на второй этаж и проходя мимо комнаты Эмили, она видит в приоткрытую дверь, что туда проникла одна-единственная светящаяся мушка и мерцает над подушкой.
Решив, что Милисенте нужны подруги ее возраста, Мейбел пригласила в «Лощину» после обеда двух дочерей миссис Хатчисон, восьми и десяти лет. Они осмотрели комнату Милисенты суровым взглядом.
— У тебя не слишком много игрушек, — вынесла вердикт старшая, Констанс.
— А кукол вообще нет, — добавила младшая, Фейт.
— Одни только книги, — удивленно продолжила первая.
Чтобы хоть как-то смягчить их разочарование, Милисента достает из письменного стола калейдоскоп, подарок господина Дикинсона, и протягивает Фейт.
— Вот, если посмотреть туда, будет чудо.
Малышка прикладывает игрушку к глазу, несколько раз поворачивает трубку, потом передает старшей сестре, которая тоже не проявляет особого интереса.
— Ну хотя бы игра пачиси [6] у тебя есть? — спрашивает она.
— Нет.
— А шашки?
— Тоже нет.
Сестры недовольно топают ногой. Младшая садится на пол и дуется. Старшая, скрестив руки, сверлит взглядом Милисенту, которая, решив прибегнуть к последнему средству, подходит к книжному шкафу и достает две своих самых любимых книги: словарь и энциклопедию рыб, протягивает сестрам. Это занимает их на несколько минут. Тем временем Милисента погружается в приключенческий роман, такой увлекательный, что вскоре забывает о гостях и даже подскакивает от неожиданности, когда заскучавшая Констанс покашливает. Она бесцеремонно кладет свою книгу на пол и жизнерадостно вопрошает:
— Может, лучше поиграем в прятки?
— Ой, да! — радостно кричит ее сестра, и Милисенте остается только согласиться.
— Чур ты водишь, — приказывает Констанс.
Милисента закрывает глаза, прижимает к ушам ладони и медленно начинает обратный счет, от пятидесяти до нуля. Мир перестает существовать, она слышит лишь звук собственного голоса и чувствует, как пульсирует кровь в барабанных перепонках, подобно морю в ракушке. Она намеренно растягивает расстояние между числами, словно не желая добраться до нуля и открыть глаза.
Наконец она почти с сожалением возвещает:
— Пора не пора, иду со двора!
Сначала она смотрит под кроватью — никого. В шкафу — никого. Она даже перебирает одежду на плечиках, желая убедиться, что девочки не спрятались между платьями. За дверью их тоже нет. Между шторами и стеной нет. И тут она замечает в окно двух сестер, которые, смеясь, убегают со всех ног, их юбки облепили колени, а светлые локоны развеваются на ветру.
Милисента вздыхает, подбирает с пола оставленную энциклопедию, открывает на странице с буквой «Н»: нарвал, морской единорог, самый одино-кий из единорогов.
Когда, чуть позже, Милисента выходит в лес, который мама упорно называет «маленьким леском», на стволе дерева с ободранной корой она замечает странные линии, похожие на записку на незнакомом языке, маленький лабиринт. Она пытается его разгадать, водя пальцем по линиям, как слепые, когда читают книги со шрифтом, придуманным господином Брайлем. Если бы только она умела лучше читать, десятки разветвляющихся тропинок рассказали бы ей историю дерева и этого леса. Может быть, они научили бы ее разным приемам: как лучше петь, как быть изящной, как заводить друзей не только среди книг, как больше походить на мать.
Мейбел, Лавиния и Хиггинсон встречаются втроем впервые. Лавиния полагала, что, будучи дарителем произведения, сможет высказывать свои пожелания, предложения и предпочтения, но оказалось, она просто выслушивает Хиггинсона, усадившего их с Мейбел по другую сторону массивного письменного стола, за которым обычно священнодействовал.
— Разумеется, — сразу сказал он, — там придется кое-что поправить.
— Конечно, — соглашается Мейбел.
— Что поправить? — уточняет Лавиния.
— Ну, например, возьмем эти тире. Очевидно ведь, что их там слишком много. От этого они теряют силу. И затрудняют чтение, мешают движению мысли. Для поэта, который никогда не публиковался, это совершенно естественная причуда, но мы, издатели, должны делать тексты более ясными и понятными…
— Простите, — вмешивается Лавиния, — я не специалист в поэзии или в издательском деле…
— Вот именно, — подтверждает Хиггинсон.
— Я не специалист в этих областях, но я знаю свою сестру. Если бы Эмили хотела стать более ясной и понятной, она бы стала.
Фраза получилась какой-то неуклюжей, как будто это сестра, а не ее тексты могла бы стать более понятной. Она не привыкла рассуждать о вещах, которые нельзя потрогать и пощупать, о вещах возвышенных и абстрактных, a fortiori [7] с такими знаменитостями, как господин Томас Хиггинсон. Она беспомощным взглядом окидывает Мейбел, пытаясь найти поддержку. Но молодая женщина сидит прямо, со сложенными на коленях руками и, улыбаясь, не сводит глаз с издателя.
Лавиния с трудом продолжает:
— Раз Эмили поставила эти тире,