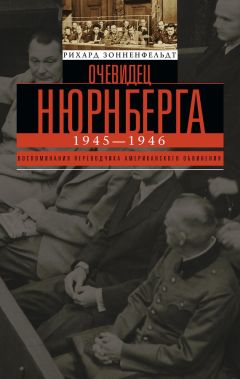После поездки в мифический Санкт-Фалентин у меня осталось время прочитать пачки захваченных документов. Отнюдь не преуменьшая опасность, которую представлял Гитлер, и дорогую цену, которую пришлось заплатить за окончательную победу над ним, я с изумлением увидел в этих документах, насколько невежественны были нацисты в отношении мира, который решили захватить. Верно оценив слабость французов, они просчитались с характером англичан и переоценили ограниченную область влияния Британской державы. Нацисты не имели понятия о решимости и промышленной мощи американцев. Они смертельно недооценили стойкость Советов и до нелепости переоценили воздействие, которое нападение японцев на Пёрл-Харбор могло оказать на способность Америки вести победную войну на Тихом океане и в Европе. Попытались бы они захватить мир, подумал я, если бы лучше в нем разбирались?
Все свои первые успехи Гитлер достиг без военных действий, за что получил одобрение простых немцев, увидевших, как он сбрасывает ярмо ненавистного Версальского договора и возвращает немцам уважение к самим себе. При все более раздувающемся самодовольстве, преклонении соотечественников и соглашательстве иностранных государств Гитлер поддерживал в своих противниках слабую надежду на то, что он, как и они, будет предан идее мира. А он поверил в собственный военный гений.
Но, несмотря на яркие фантазии журналистов, обманутых нацистской пропагандой, у него никогда не было общего замысла; Гитлер был оппортунистом с фантастическим талантом пользоваться слабостями противников. Войдя в Чехословакию в конце 1938 года без военных действий, в то время как Чемберлен рассуждал о «мире для нашего поколения»[7], Гитлер на тайном заседании сказал своим самым доверенным министрам и генералам, как записали его адъютанты:
«Автаркия [экономическое самообеспечение] несостоятельна. Я нападу на Францию и Англию в самый благоприятный и в самый ближайший момент. Я, при всей скромности моей собственной персоны, – незаменим. Ни один военный и ни один гражданский деятель меня заменить не смог бы. Я убежден в силе моего ума и в моей решительности. Я ставлю все это мое дело на карту. У меня есть только один выбор: между победой или нашим уничтожением. Я выбираю победу! Боюсь только одного: как бы в последний момент какая-нибудь паршивая свинья не подсунула мне свой план посредничества».
Гитлер верил в этот выбор между «победой и уничтожением» до последней минуты своей жизни. Нюрнбергский психиатр Даглас Келли объяснил мне, что над всей взрослой жизнью Гитлера доминировала дихотомия: всемогущество или ничтожество.
Внутренние и внешние противники должны были понять, кем был этот человек, отвергнуть и раздавить его, когда это еще легко было сделать, до 1936 года. Пример Гитлера убедил меня, что бороться с тиранами следует еще до того, как они окончательно превратятся в чудовищ.
Я также понял, что истребление евреев не играло существенной роли в территориальных притязаниях Гитлера. Диктаторам нужны враги, чтобы народ почитал их как спасителей. В самой Германии наиболее подходящими были евреи, чтобы играть двойную роль врага и козла отпущения. Стремясь объединить Германию под своей властью, Гитлер больше нуждался во врагах, чем в нескольких лишних сторонниках.
Только благодаря своей удаче я мог тогда, в Нюрнберге, спокойно и презрительно смотреть на извращения Гитлера. Если бы я вовремя не спасся, то стал бы одной из его жертв.
Немецкий народ поставил все на материальное благополучие и национальную гордость, сделавшись пособником и орудием империи зла.
Мы, американцы, находившиеся в Нюрнберге, не прекращали спорить между собой, посему большинство немцев пошло за фюрером, еще задолго до того, как ученый Даниель Гольдхаген поднял эту тему. Читая кипы нацистских документов, я спрашивал себя: «Что знала основная масса немецкого народа о преступлениях гитлеровской шайки и когда она узнала об этом? И что она могла сделать, чтобы помешать собственному правительству совершать преступления?»
Когда президент Гинденбург облек Гитлера полной властью, «чтобы защитить немецкую демократию», в январе 1933 года, в Германии не было силы, способной устранить или как-то сдержать Гитлера. Его истинная злоба проявилась, когда его власть стала абсолютной, и после этого его сдерживали только собственные понятия о том, что может сойти ему с рук. До холокоста оставалось еще много лет. Прошло почти девять лет после прихода нацистов к власти, прежде чем Геринг издал «Приказ об окончательном решении еврейского вопроса», за три года до разгрома нацистов.
Я не могу забыть, что ответил мне Гальдер, когда я спросил его:
– За что вы сражались?
– Мы дали присягу фюреру, – ответил он. – У нас не было выбора.
Он подтвердил то, что я знал и так. Мы, американцы, после нападения японцев и после того, как Гитлер объявил войну, должны были сражаться ради того, чтобы защитить свою страну, ради своей веры в права человека, а не ради того, чтобы восславить всемогущего вождя или поработить другие народы. У нас президент служит стране, а не наоборот. Когда Рузвельт умер, мы были потрясены и опечалены, но его смерть никак не повлияла на наши ценности. Когда умер Гитлер, а с ним и все надежды на победу, немцам больше не за что было сражаться. Объект их присяги исчез, и никто не встал на его место. Там не было гуманистических идеалов – ни защиты прав человека, ни понятий о благородстве или чести, одно только слепое послушание. Как будто Гете, Бетховена, Брамса, Шиллера, Лютера и великих немецких философов никогда не существовало. Единственной целью нацистов было порабощение соседних народов и продвижение по служебной лестнице. Когда противники разгромили немцев, им пришлось открыть глаза на глупость нацистских бредней и извращенные преступления, увидеть разрушенные города и с тоскою ждать той поры, когда их пленные вернутся домой.
Гитлер настолько полно разрушил все традиционные ценности и порядочность Германии, что у поколения, поклявшегося ему в верности, в буквальном смысле слова не осталось моральных ценностей или идеалов, на которые оно могло бы опереться. Конечно, остались привычки повседневной жизни: усердие и чистоплотность. Немцы, которые с радостью прятались за спиной Гитлера, пока он был на вершине, но не могли выйти из его тени, когда он потерпел провал, теперь оказались в лучах безжалостного света, обнажившего материальную и духовную пустоту нацистской злобы. Нигде этот свет не сиял так же разоблачительно, как в Нюрнберге, сначала в комнатах для допросов, потом в зале суда. Никто из подсудимых ни разу не сослался хотя бы на одну положительную сторону национал-социализма и не выказал ни следа еще остающейся веры в его догматы. Даже Геринг, заявлявший о своей верности Гитлеру и расхваливавший нацизм, чтобы выставить себя героем, никогда не говорил об идеалах, а только о жажде власти.