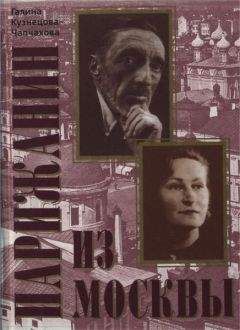Я, как и Вы, свято верю, что русский народ свергнет мучителей-большевиков, оправдает себя перед Богом и перед историей. По ночам я просыпаюсь в слезах из-за нашей родственницы, нашей дорогой бабушки. Вы плохо знаете этих докторов, а я с ними имела дело. Говорю Вам, в её доме скверно. Домашние пожимают плечами — я то плачу, то смеюсь. Даже маме я не могу объяснить своё состояние, она осудит меня. Но я не хочу, понимаете, не хочу отказываться от этой муки и умоляю Вас поверить мне, это не каприз, не выдумка. Вы призываете меня работать, находите во мне таланты, но я ничего не сделаю без Вас, мне нужен добрый учитель. Всё становится без Вас бессмысленным и ненужным. Разве у Вас иначе? Там течёт крыша, бабушка простужена…» И горькое бессилие что-либо сделать для неё.
Невозможно не верить этим письмам, так хочется знать, что ты в самом деле не одинок, можешь довериться всем сердцем. Так не лгут:
«…И я не знаю, как дальше жить без Ваших писем, без надежды на счастье. Не может быть. Не верю. Я полюбила Вас до всего, что было до и после 36 года и берлинской встречи с Вами, с тех пор, как открыла для себя Ваши книги, я только не понимала этого, а теперь знаю и живу надеждой на нашу встречу, я слышу Ваш голос то над водной гладью, то в тёплом ветре, овевающем меня, идущую по полю; то в храме я узнаю Вас среди толпы, и мы вместе подхватываем пение церковного хора «Слава в Вышних Богу и на земле мир…» А то у Вашего камина нам тепло, уютно, и мы внимаем шуму дождя за окном и плачу ветра в осенней стуже… Нет, я не мыслю не увидеть Вас…»
И опять: чем он питается, соблюдает ли диету, какие у него лекарства? Ей, например, помогает селюкрин. Кажется. Во всяком случае, аппетит стал лучше, продукты же свои, деревенские. Ах, если б она могла ему послать посылку, у них ведь своя ферма! Умоляет больше не передавать с Фасиным мужем цветов — этот дубина Толен (и правда дубина: обернул её подарок — фотографию — её же письмом, когда передавал Ивану Сергеевичу!), да, этот дубина Толен знает Арнольдову родню, для них всех господин Chmelev только большой русский писатель-эмигрант, маленькая отдушина для русской жены и невестки Бредиусов. Оставаться ли ему в этом качестве и как долго?
И снова: как ей одиноко, как пусто. Она не может жить без его писем, без его тепла, она должна знать, что нужна ему. Если бы не его книги, которые она перечитывает и ждёт новых, жить было бы совсем невыносимо. И он пишет, пишет длинные письма, много писем.
И ещё бесчисленные зовы исхлопотать визу и приехать в Голландию. «Я бы нашла тебе комнату с пансионом в Arnheim’e. Это маленький городок. В нём часто бывают туристы». То есть для посторонних его приезд — вполне естественный интерес иностранца к новой для него стране. К тому же у него может быть литературный интерес в Голландии.
«Я больше не могу жить без наших писем друг другу. Твоя Ольга».
«У меня болит в груди. Сжимает грудь, как обручем железным по ночам, и я должна вставать, то есть садиться. Это бывало и раньше. То болит рука, то грудь. Врачи пожимают плечами: нервное. Наверно. Ведь когда я думаю о нашей бабушке и вижу её во сне, и тогда боль тоже. Ну да, это всё объяснимо, значит, пройдёт. Только бы увидеться…»
Ольга Александровна писала, что у неё физически болит сердце в день кончины его жены Ольги Александровны. Возможно ли это — такая пронзительная чуткость у этой молодой мятущейся женщины. Он — верит. Эти её просьбы-крик души немедленно отвечать на её письма, потому что война, закрыты ставни магазинов, холод, и она места себе не находит при мысли, что Иван Сергеевич не здоров, что у него нет продуктов, лекарств, за ним нет настоящего ухода. Ему снятся странные сны? Но и она никогда не спит без снов, это мучительно, хоть бы раз отдохнуть вполне…
«Мой родной, мой милый! Бесценный мой, чудесный, дивный… Как я люблю Вас… я иногда чувствую себя как бы во власти тёмной силы. Но Вам я пишу, я это точно знаю, не во тьме. М.6., из тьмы, взывая, хватаясь за Свет, именно от жажды Света… Меня мучает разлад внутри меня, а по ночам — изнуряющие сны. Вот один из них: мы вдвоём, но тут же ты на корабле, и он, дрогнув, совсем немного отошёл, и я не могу дотянуться… Мне иногда до ужаса бывает страшно, совестно перед миром, что Вы такое богатство, такой редчайший жемчуг мне, мне одной лишь рассыпаете…»
Вот это была святая правда! И.С. страстно желал помочь душевному покою любимой, уже необратимо любимой!
Он уверял себя, что вот-вот всерьёз примется за второй том «Путей Небесных»! Он, видно, забыл, что творчество не прощает измены, скорее простят женщины, чем пустая белая бумага, но уже был не властен над своим чувством.
«Солнышко моё, Олюшка! Для всего, даже для писаний моих, у меня уже ничего не остаётся. Ты всё закрыла. Так — я никогда никого не любил. Оля — особо, она детская любовь, перелившаяся в необходимость такой любви — очень тонкой. А к тебе всё — и эта очень тонкая, и сильная, и бурная, и умная… Сердце должно подсказать тебе, когда уйти от тяжкой атмосферы Шалвейка. Я прошу тебя церковно связать мою жизнь с твоей. Мама и брат будут с нами тоже. Я буду о-чень тебя любить. И писать Дари. «Пути» не должны быть оскоплёнными, кульминационный пункт — зачатие… я всё сведу в страстную симфонию… Но только чтоб мы были рядом».
И чтоб был у него от любимой женщины долгожданный ребёнок. За все муки, за всю невыносимую реальность, которую почему-то надо терпеть.
Как известно, бракам, совершаемым на небесах, присуща ясность и доброе согласие. Трудно представить, чтобы «двое» могли подходить друг другу больше, чем Иван Шмелёв и Ольга Охтерлони. За время «ухаживания» у конфликтного, порывистого, неспокойного Ивана не случилось ни одного разногласия с ровной, доброжелательной, невозмутимой Оленькой. Первая слушательница его жизненных проектов, она становилась ему всё необходимее от одного приезда до другого. Её всегдашняя готовность разделить его недовольство или восторг, принять к сведению любое мнение о чём угодно, неспособность хитрить, что так свойственно многим барышням, лукавить, искусственно вызывать ревность, дурачить, наслаждаться своей хитростью, то есть лживостью. Короче, тот самый идеал Пушкина, о котором все знают со школьных лет. Это был и его идеал:
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей,
Всё было тихо, просто в ней.
Иваном теперь владело горячее желание стать лучше, любить Бога, хорошо окончить гимназию, поступить в Московский университет — в частном и в большом, во всём у него была теперь высокая цель.