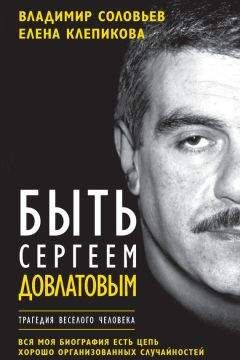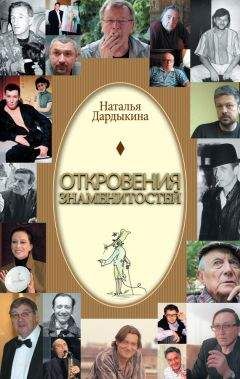Он жил в самой гуще русской иммиграции, и мне кажется, здешние дела его волновали больше, чем тамошние, на нашей географической родине. Во всяком случае, моей первой поездке в Москву весной 1990 года он удивился, отговаривал и даже пугал: «А если вас там побьют?» Сам ехать не собирался — шутил, что у него там столько знакомых, что он окончательно сопьется.
Поездка у меня оказалась более печальной, чем я ожидал: когда я был в Москве, в Нью-Йорке неожиданно умерла моя мама. Сережа несколько раз звонил мне в Москву, а когда я вернулся, похоже, осуждал, что не поспел к похоронам. Когда я пытался оправдаться, он сказал несколько высокопарно:
— Это вам надо говорить Богу, а не мне.
Сам он был очень гостеприимен к столичным и питерским визитерам. Когда открылась «большая навигация» и они наладились к нам, тратил уйму энергии, нервов и денег, был у них на побегушках. Вот тогда Нора Сергеевна и сказала мне: «В большом теле — мелкий дух». А обсуетясь вокруг гостя и проводив его, злословил по его адресу, будь то питерский приятель Андрей Арьев или старая, по Москве знакомая Юнна Мориц.
Последнюю — а я довольно близко сошелся с Юнной еще перед переездом из Ленинграда в Москву и в мою недолгую бытность в столице — он буквально отбил у меня в Нью-Йорке, чему я был, честно говоря, только рад: Юнна Мориц — классный поэт, но довольно беспомощный в быту человек, тем более в быту иноземном. Как-то сидел у нас в гостях Виктор Ерофеев с женой (первой) и сыном, а я только и делал, что бегал к телефону: это непрерывно — часа два кряду — звонил Сережа с автобусной станции, где встречал Юнну, а ее все не было. Он весь извелся — потом выяснилось, что она задержалась в гостях и уехала другим автобусом, не предупредив Довлатова.
Понятно, что в такой экстремальной ситуации он не удержался и запил, не дождавшись отъезда своей гостьи в Москву. Она позвонила мне ночью из Бруклина в Куинс, умоляя ее забрать: «Здесь такое творится!..» Но, сытый по горло требовательной Юнной да еще разбуженный среди ночи, я ответил сквозь сон: «Кто тебя привез, тот пусть и увозит» — и повесил трубку. Юнна вернулась только под утро в сопровождении Гриши Поляка, у того был подбит глаз и разбиты очки (Сережей, который на следующий день купил ему новые). Когда она уехала, Сережа дал себе волю, пытаясь взять хотя бы словесный реванш за все свои унижения, треволненья и суету, а потом и вовсе ударился в запой. Как-то он позвонил мне рано утром в выходной и попросил принести водки (ликеро-водочные магазины были закрыты). Я попросил дать трубку Лене Довлатовой — та подтвердила просьбу. Вот я и потащил остатки водки к Сереже — три четверти бутылки со свернутым куском «Нью-Йорк таймс» вместо пробки. Это единственный раз, когда я его видел в таком состоянии, — черный как головня. Подробности опускаю. Слово Леше Лосеву — другу скорее Бродского, чем Довлатова:
Я видал: как шахтер из забоя,
выбирался СД из запоя,
выпив чертову норму стаканов,
как титан пятилетки Стаханов.
Вся прожженная адом рубаха,
и лицо почернело от страха.
Было это незадолго до Сережиной смерти. Он успел отдать мне алкогольный должок — бутыль «Абсолюта». Я не хотел брать, он настаивал, я взял.
Уже в Москве, узнав о смерти Довлатова, Юнна Мориц напишет стихотворение «Довлатов в Нью-Йорке»:
Огромный Сережа в панаме
Идет сквозь тропический зной,
Панама сверкает над нами
И машет своей белизной.
…………………………………
Долги ему жизнь отравляют,
И нету поместья в заклад.
И плохо себе представляют
Друзья его внутренний ад.
…………………………………
И всяк его шутке смеется,
И женщины млеют при нем,
И сердце его разорвется
Лишь в пятницу, в августе, днем.
А нынче суббота июля,
Он молод, красив, знаменит.
Нью-Йорк, как большая кастрюля,
Под крышкой панамы звенит.
Хорошо, точно сказано: «внутренний ад». С одной только поправкой: кто не представлял этот ад, а кто и представлял, чего обобщать, говори за себя, Юнна! Все-таки ты его видела только в редкие наезды в Нью-Йорк — в отличие от нас, ньюйоркцев. Этот ад всегда был при нем. Не это ли причина довлатовского злоречия?
Это злоречие — точнее, злоязычие — один из излюбленных Сережей устных и эпистолярных жанров. По жизни он был еще тот мизантроп — временами. Вот и давал себе волю в письмах, выпускал пар! Чмонил всех по-черному. Мог и передернуть, чтобы подвести под образ. Ну да, ушат помоев на всех своих знакомцев, друзей и сродников, себя включая. По принципу: все говно, кроме мочи! Он вкладывал в эти характеристики весь свой недюжий талант. Потому они так прилипчивы, хоть и не всегда справедливы.
Что делать, у него была аллергия на жизнь. Точнее, случалась: вспышки аллергии. Частная переписка? Не хотел, чтобы его письма печатали? Не факт. А что, если это его посмертный реванш — пусть на бессознательном уровне — не только за обиды при жизни, но и за посмертные: от своих будущих мемуаристов-зоилов?
В отличие от меня, он жил жизнью общины, писал про нее и писал для нее. От него я узнавал не только местные новости, но и уморительные истории из жизни эмигрантов. Помню историю про его соседа, которого Сережа спрашивает, как тот устроился в Америке: «Да никак пока не устроился. Все еще работаю…» При всех Сережиных жалобах на эмиграцию — что здесь приходится тесно якшаться с теми, с кем в Питере рядом срать бы не сел, — именно эмиграция послужила для него, как для писателя, кормовой базой, питательной средой. Помимо расширения его читательской аудитории (в разы больше, чем на родине) и тематической и сюжетной экспансии его прозы, еще и ее языковое обогащение. Ему не надо было ездить на Брайтон в Бруклин, поскольку 108-я улица и ее окрестности были так необходимой писателю его типа языковой средой. Впрочем, на Брайтоне он тоже часто бывал, привозя оттуда сюжеты, анекдоты, персонажей и речевые перлы. А потому защищал своих героев и читателей от своих литературных коллег: евреев от евреев. А те в самоотрицании доходили аж до погромных призывов:
…нужен, дескать, новый Бабель,
дабы воспел ваш Брайтон-Бич.
Воздастся вам — где дайм, где никель!
Я лично думаю одно —
не Бабель нужен, а Деникин!
Ну, в крайнем случае — Махно.
Если Бродский приехал в Америку сложившимся, состоявшимся и самодостаточным поэтом, оставив главные свои поэтические достижения в России, и здесь его литературная карьера рванулась вверх per aspera ad astra — через тернии к звездам, но при этом поэтическая судьба пошла под откос, то с Довлатовым все было с точностью до наоборот: классный рассказчик в России, в Америке он окончательно сформировался как писатель, и после шоковой задержки на старте иммиграционной жизни литературная карьера и писательская судьба, совпадая, пошли в гору. Полтора десятка новых книг и две подготовленные им, но вышедшие уже после его смерти, — это после абсолютного блэк-аута на родине. С дюжину переводных публикаций в престижных американских журналах, а в «Нью-Йоркере», вершителе литературных судеб в Америке, Довлатов стал не просто желанным — persona grata, — но регулярным автором — рекордные девять рассказов за несколько лет! Само по себе явление беспрецедентное: Курт Воннегут, не напечатавший в этом журнале ни одного слова, печатно признался, что завидует Довлатову, а по словам Сережи, даже Бродский, порекомендовавший его в «Нью-Йоркер», никак не ожидал, что он придется там ко двору, и тоже неровно дышал к его, считай, рутинным в этом еженедельнике публикациям. И это не говоря о первых переводных книжках, международных писательских конференциях в Лиссабоне и Вене, редактуре «Нового американца», внештатной работе на радио «Свобода», систематических газетных публикациях, сольных литературных вечерах в Нью-Йорке и по Америке, тогда как в России был один-единственный, упомянутый мной, на котором Сережа читал рассказы, а я делал вступительное слово. Я предварял своими выступлениями столько литературных вечеров — Юнны Мориц в Литературном музее, Фазиля Искандера в Центральном доме литераторов, Евтушенко и Межирова в Ленинграде, не упомню в каком Доме культуры, зато помню, что с конной милицией на прилегающих улицах, а уже здесь, в Нью-Йорке, тех же Искандера, Мориц и прочих, — вот память моя и не удержала, что именно я говорил о Сереже на его авторском вечере. Разглядываю фотки Наташи Шарымовой с того вечера — вот я стою, держась за спинку стула, и что-то вещаю, а вот сидит Сережа и, уткнувшись в рукопись, читает свой рассказ — какой? — и перед ним портфель, как я помню, с другими его сочинениями. Чисто немое кино, но, увы, без титров. Само собой, я нахваливал его уморительно смешные абсурдистские рассказы, но — Эврика! вспомнил! — упрекнул в том, что литература для него как хвост для павлина. Сереже-то как раз это в память запало, коли он взял мой образ на вооружение и, как что, говорил: «Пошел распускать свой павлиний хвост». Это и другие мемуаристы отмечают, не только я.