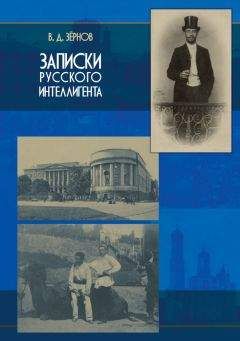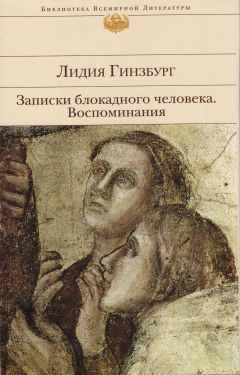Мама, которая слушала из соседней комнаты, как-то сказала мне:
– Я думаю, что никакого толку от этих сказок не будет. Говорит один Готье, а тебя совсем не слышно. Я думаю, что ты и не понимаешь, что говорит Готье, а уж сам говорить никогда не научишься.
Я обиделся и за Готье, и за себя и свободно хорошим французским языком стал пересказывать то, что в последний урок слышал от Готье.
Впоследствии практики французского разговора я имел мало и многое забыл, но, во всяком случае, и теперь достаточно хорошо понимаю французскую речь и читаю по-французски, а когда попадал во Францию, то быстро всё вспоминал и объяснялся вполне удовлетворительно.
Английскому языку я учился уже совсем взрослым человеком. Уроки брал в Гейдельберге в школе Бёрлица{85}. Довольно быстро овладел разговорной речью, так что мог в Англии более или менее порядочно разговаривать, но потом так же быстро, как научился, забыл английский – в памяти остались лишь отдельные слова.
Приобщение к церковным службам
В первый раз я говел и исповедовался восьми лет от роду на Страстной неделе{86}. На этой неделе говели буквально все, и дома темой разговоров были преимущественно церковные службы и предстоящие праздники. Все ходили в университетскую церковь{87} к обедне и всенощной и причащались в Великий Четверг. Настя (Кусенька) особенно покровительствовала исполнению мной поста. Когда я подрос, ходил с Настей в храм Спасителя{88} в ночь с пятницы на субботу на службу Погребения, которая здесь совершалась с большой торжественностью, и хотя стоять всю ночь без сна было тяжело, необычайная торжественность службы и сама трудность стояния производили сильное впечатление.
Первым моим духовником был профессор богословия Московского университета Сергиевский. Этот строгий старик замечательно картинно служил и в Великий Четверг сам читал двенадцать Евангелий, слушать которые всегда собиралось множество народа – и университетских, и к университету не имеющих никакого отношения, так что большая церковь сплошь наполнялась московской интеллигенцией. По старинному обычаю женщины занимали в церкви левую половину, а мужчины – правую, куда становился и я, как только стал говеть и исповедоваться.
Перед первой исповедью я сильно волновался. Чтобы не забыть, что мне надо сказать духовнику, у меня была приготовлена записка, которую я крепко держал в руке. Но пользоваться запиской не пришлось. Когда я взошёл на правый клирос за ширму, где исповедовал Сергиевский, и положил земной поклон перед Крестом и Евангелием на аналое, я стал перед Сергиевским, сидевшим на стуле. Сергиевский подвинул меня близко к себе и начал наставлять, как я должен себя вести, как относиться к окружающим людям, особенно к родителям. Он говорил умно и убедительно, потом велел стать на колени, положил епитрахиль мне на голову и прочитал отпускную молитву. Этим моя первая исповедь и была закончена. Я почувствовал большое облегчение, и это поучение Сергиевского навсегда осталось хорошим воспоминанием из детских лет.
В четверг после обедни и причастия приходили домой, приносили в чистой салфетке порядочный узелок очень вкусных просфир{89}, которые выдавались каждому из причастников. А дома уже были готовы постный пирог и чай с кагором.
Днём в четверг красили яйца, а Настя приготовляла «четверговую соль» – соль смешивалась с яйцом, завязывалась в узелок и всё это сжигалось в печке. Получался спёкшийся комок, который толкли в ступке – выходила серая соль со своеобразным запахом и вкусом. Ею и солили яйцо, когда после Светлой Заутрени{90} разговлялись.
Пасху и куличи начинали готовить в пятницу. Мы, дети, были очень заинтересованы этим приготовлением. Так соблазнительно пахло ванилью! Однако пробовать не полагалось. Куличи пекли в субботу утром, потом они тёплые лежали на боку на подушках у тёти и у мамы. Делалось это для того, чтобы сильно поднявшиеся горячие куличи не сели, остывая.
К Светлой Заутрене мы ходили в университетскую домовую церковь, она помещалась в новом здании университета на Никитской (улица Герцена), там, где теперь университетский клуб. Я очень любил эту церковную службу. В церковь отправлялись рано – часов в одиннадцать, чтобы успеть занять свои обычные места слева у амвона{91}. В церкви ещё полутемно, но народ уже есть. Мужчины – в мундирах и фраках, дамы – в нарядных светлых платьях. В алтаре открыто окно, чтобы был слышен первый удар колокола на Иване Великом{92}, с которого по всей Москве начинался крестный ход.
Перед двенадцатью часами профессора в мундирах и орденах берут иконы и ждут, когда отворятся Царские Врата{93}, и духовенство в светлых ризах, священник с крестом, украшенным букетом цветов, не выйдет из алтаря. Часть народа следует за крестным ходом, мне же нравилось остаться в полутёмной церкви. Большие входные двери затворялись, и наступала напряжённая тишина. Все оставшиеся прислушивались к тому, что делается за затворёнными дверями. Крестный ход, обойдя вестибюль, возвращался к дверям, и тогда нам слышалось заглушённое пасхальное пение. И вот открываются входные двери, врывается пение «Христос воскресе», поджигается зажигательный шнур и пламя обегает свечи паникадил. В церкви делается светло, и священник, идущий во главе возвращающегося хода, обращается направо и налево с радостным известием: «Христос воскрес», а все ему отвечают: «Воистину воскрес».
По возвращении домой разговлялись пасхой, куличом и яйцами. В учебных заведениях на Страстной неделе и всей Пасхальной неделе занятия отменялись.
Моё первое увлечение. Домашние спектакли
Однажды (я ещё не учился в гимназии) дома на Страстной неделе родители неожиданно заговорили об одной необыкновенно хорошенькой девочке. Она говела в университетской церкви и, стоя впереди у самого амвона, всегда очень усердно молилась. Обратил и я на эту девочку внимание и, несмотря на свой малый возраст, даже начал заглядываться на неё. Когда же я учился в первом классе и был, так сказать, уже «самостоятельным человеком», я вновь заметил её, выходящей из церкви, и на значительном расстоянии пошёл следом за нею.
Такое «ухаживание» повторялось несколько раз и, конечно, его заметил мой двоюродный брат Лёня Полов, учившийся в то время в Московской гимназии Креймана и проводивший у нас праздники.
Как-то Лёня рассердился на меня за что-то и заявил обиженно:
– Погоди! Я тёте расскажу про твои шашни, как ты за девчёнкой бегаешь.