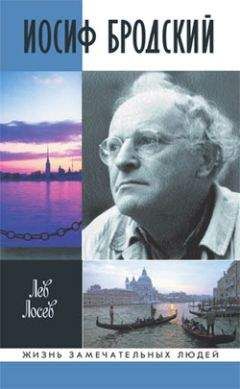А вот отрывок из так называемой мистерии:
Я шел по переулку,
Как ножницы – шаги.
Вышагиваю я
Средь бела дня
По перекрестку,
Как по бумаге
Шагает некто
Наоборот – во мраке.
И это именуется романсом? Да это же абракадабра!
Уйдя из литературного объединения, став кустарем-одиночкой, Бродский начал прилагать все усилия, чтобы завоевать популярность у молодежи. Он стремится к публичным выступлениям, и от случая к случаю ему удается проникнуть на трибуну. Несколько раз Бродский читал свои стихи в общежитии Ленинградского университета, в библиотеке имени Маяковского, во Дворце культуры имени Ленсовета. Настоящие любители поэзии отвергали его романсы и стансы. Но нашлась кучка эстетствующих юнцов и девиц, которым всегда подавай что-нибудь „остренькое“, „пикантное“. Они подняли восторженный визг по поводу стихов Иосифа Бродского…
Кто же составлял и составляет окружение Бродского, кто поддерживает его своими восторженными „ахами“ и „охами“?
Мариамма Волнянская, 1944 года рождения, ради богемной жизни оставившая в одиночестве мать-пенсионерку, которая глубоко переживает это; приятельница Волнянской – Нежданова, проповедница учения йогов и всяческой мистики; Владимир Швейгольц, физиономию которого не раз можно было обозревать на сатирических плакатах, выпускаемых народными дружинами (этот Швейгольц не гнушается обирать бесстыдно мать, требуя, чтобы она давала ему из своей небольшой зарплаты деньги на карманные расходы); уголовник Анатолий Гейхман; бездельник Ефим Славинский, предпочитающий пару месяцев околачиваться в различных экспедициях, а остальное время вообще нигде не работать, вертеться возле иностранцев. Среди ближайших друзей Бродского – жалкая окололитературная личность Владимир Герасимов и скупщик иностранного барахла Шилинский, более известный под именем Жоры.
Эта группка не только расточает Бродскому похвалы, но и пытается распространять образцы его творчества среди молодежи. Некий Леонид Аронзон перепечатывает их на своей пишущей машинке, а Григорий Ковалев, Валентина Бабушкина и В. Широков, по кличке Граф, подсовывают стишки желающим.
Как видите, Иосиф Бродский не очень разборчив в своих знакомствах. Ему не важно, каким путем вскарабкаться на Парнас, только бы вскарабкаться. Ведь он причислил себя к сонму „избранных“. Он счел себя не просто поэтом, а „поэтом всех поэтов“. Некогда Игорь Северянин произнес: „Я, гений Игорь Северянин, своей победой упоен: я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден!“ Но сделал он это, в сущности, ради бравады. Иосиф Бродский же уверяет всерьез, что и он „повсесердно утвержден“.
О том, какого мнения Бродский о самом себе, свидетельствует, в частности, такой факт. 14 февраля 1960 года во Дворце культуры имени Горького состоялся вечер молодых поэтов. Читал на этом вечере свои замогильные стихи и Иосиф Бродский. Кто-то, давая настоящую оценку его творчеству, крикнул из зала: „Это не поэзия, а чепуха!“ Бродский самонадеянно ответил: „Что позволено Юпитеру, не позволено быку“.
Не правда ли, какая наглость? Лягушка возомнила себя Юпитером и пыжится изо всех сил. К сожалению, никто на этом вечере, в том числе и председательствующая – поэтесса Н. Грудинина, не дал зарвавшемуся наглецу надлежащего отпора.
Но мы еще не сказали главного. Литературные упражнения Бродского вовсе не ограничивались словесным жонглированием. Тарабарщина, кладбищенско-похоронная тематика – это только часть „невинных“ увлечений Бродского. Есть у него стансы и поэмы, в которых авторское „кредо“ отражено более ярко. „Мы – пыль мироздания“, – авторитетно заявляет он в стихотворении „Самоанализ в августе“. В другом, посвященном Нонне С., он пишет: „Настройте, Нонна, и меня на этот лад, чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки“. И, наконец, еще одно заявление: „Люблю я родину чужую“.
Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он „любит родину чужую“, Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине.
Однажды по приглашению своего дружка О. Шахматова, ныне осужденного за уголовное преступление, Бродский спешно выехал в Самарканд. Вместе с тощей тетрадкой своих стихов он захватил и „философский трактат“ некоего А. Уманского. Суть этого „трактата“ состояла в том, что молодежь не должна-де стеснять себя долгом перед родителями, перед обществом, перед государством, поскольку это сковывает свободу личности. „В мире есть люди черной кости и белой. Так что к одним (к черным) надо относиться отрицательно, а к другим (к белым) положительно“ – поучал этот вконец разложившийся человек, позаимствовавший свои мыслишки из идеологического арсенала матерых фашистов.
Перед нами лежат протоколы допросов Шахматова. На следствии Шахматов показал, что в гостинице „Самарканд“ он и Бродский встретились с иностранцем. Американец Мелвин Бейл пригласил их к себе в номер. Состоялся разговор.
– У меня есть рукопись, которую у нас не издадут, – сказал Бродский американцу. – Не хотите ли ознакомиться?
– С удовольствием сделаю это, – ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес: – Идет, мы издадим ее у себя. Как прикажете подписать?
– Только не именем автора.
– Хорошо. Мы подпишем ее по-нашему: Джон Смит.
Правда, в последний момент Бродский и Шахматов струсили.
„Философский трактат“ остался в кармане у Бродского.
Там же, в Самарканде, Бродский пытался осуществить свой план измены Родине. Вместе с Шахматовым он ходил на аэродром, чтобы захватить самолет и улететь на нем за границу. Они даже облюбовали один самолет, но, определив, что бензина в баках для полета за границу не хватит, решили выждать более удобного случая.
Таково неприглядное лицо этого человека, который, оказывается, не только пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией, но и вынашивает планы предательства.
Но учитывая, что Бродский еще молод, ему многое прощали. С ним вели большую воспитательную работу. Вместе с тем его не раз строго предупреждали об ответственности за антиобщественную деятельность.
Бродский не сделал нужных выводов. Он продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом. Живет он случайными заработками; в крайнем случае подкинет толику денег отец – внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы за ум, начать наконец работать, перестать быть трутнем у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем.