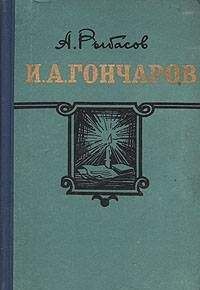В самодержавно-крепостнической России, в пору жесточайшей реакции литература, особенно русская, явилась главным источником идейного воздействия на общество. В статье «Мысли и заметки о русской литературе» Белинский писал: «…все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия…»[41]
Гончаров, как Белинский, Герцен и многие другие деятели русской литературы и культуры, рос, развивался в то время, когда, по словам Герцена, «великий Пушкин был царем и властителем литературного движения».
Но Пушкин, как справедливо замечал впоследствии Гончаров, был не только «образователем» эстетического вкуса, но и «учил жить» — «преподал уроки правды, понятий свободы, нравственности».
Как ни сильно было влияние Надеждина на юного Гончарова, он в своем отношении к Пушкину в те годы решительно расходился с ним. Именно Пушкину, а затем и Белинскому, Гончаров был обязан тем, что в своем развитии пошел вперед по сравнению с Надеждиным, хотя и усвоил органически ряд его воззрений.
Гончаров указывал на то, что в университетские годы Пушкин благотворно действовал «на круг молодых студентов Московского университета». О себе же он вспоминал:
«…Я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование».
Едва ли что-нибудь другое в студенческие годы произвело на Гончарова более яркое, сильное, волнующее и незабываемое впечатление, нежели то, когда он увидел Пушкина в стенах Московского университета. Великого поэта привез на лекцию министр Уваров.
«Когда он вошел с Уваровым, — рассказывал потом Гончаров в «Воспоминаниях», — для меня точно солнце озарило всю аудиторию…
Перед тем однажды я видел его в церкви у обедни — и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России — предо мной в пяти шагах! Я не верил глазам. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы.
«Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, — а вот и самое искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игоревом». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игоревом», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, — это для вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира.
Я не припомню подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так, что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.
С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека. Лучше всего, по моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся — это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу, голова, с негустыми, кудрявыми волосами».
* * *
Университетские годы — это первая молодость Гончарова, это лучшая пора его молодости. Университет оставил в его душе «много тепла и света», и воспоминания о нем всегда были «благороднее, чище, выше» всех других воспоминаний молодости.
Это были годы, когда в юную душу неудержимо врываются «все впечатленья бытия», когда горячо бьется сердце и от прочитанной книги, и от звучащей мелодии, и от первого дыхания весны, и от мечты о будущем. Это «общее веселие молодой жизни», замечает К. С. Аксаков в своей статье «Воспоминание студенчества», было первым мотивом студенческой жизни.
В те годы Иван Гончаров, как и вся университетская молодежь, отдал дань юношеской романтике. Но романтические настроения среди молодежи были разными. Юношеская романтика Герцена и Огарева была одухотворена идеалами «гражданской нравственности». Она ярко выразилась в их «аннибаловой клятве» на Воробьевых горах. Не мало в те годы встречалось и таких юношей из дворянской среды, романтика которых была в полном разладе с жизнью. В ней было много искусственного, напускного — преувеличенных чувств. То они «неиствовали», впадая в восторги любви и мечты, то падали духом: их охватывал «вертеризм», вялость чувств, сентиментализм. Эта разновидность реакционной романтики ярко представлена в типе Александра Адуева из «Обыкновенной истории».
Юношеская романтика Ивана Гончарова не была проникнута столь сильно гражданским пафосом, как у Герцена и Огарева. Но она и не была отвлеченной или беспредметной. Ей был присущ определенный общественный пафос. В юном уме зрело понятие о своем общественном долге — и не только «во имя науки», поисков «высшей истины». Его манили вдаль не отвлеченные мечты, а идеи добра, просвещения, справедливости.
В часы досуга Гончаров много читал, переводил с иностранных языков — ради интереса и практики. Все чаще его охватывала жажда писать, быстро, много, упоенно. Кипела фантазия, образы и слова просились на бумагу. Это были неведомые миру плоды юной творческой фантазии, тайные пробы пера.
Он просиживал часами в университетской библиотеке. Или шел к Китайгородской стене рыться у букинистов (в Москве их тогда было множество).
Но страстное влечение к науке, к книге не уводило юношу от радостей жизни, не засушило его. Он в молодости был молод.