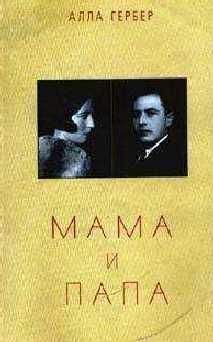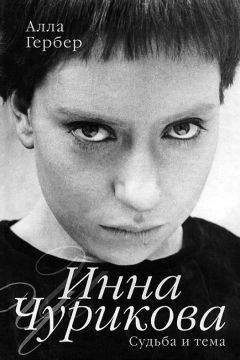Наверняка в детстве мне говорили про отметки и уроки, про то, что надевать надо и что надевать не надо. Но гораздо больше со мной общались — разговаривали. Рассказывали, читали, вовлекая в эти игры товарищей и подруг, которые хоть и дразнили меня маменькиной дочкой, но любили приходить к нам домой или гулять с моим папой.
Родители чувствовали, что дом не должен быть одиночной камерой, а двор — долгожданной свободой, и пытались соединить эти два, как кажется многим — несоединимых, понятия. Когда мы шли с папой в парк культуры, он не ленился тащить за собой нашу дворовую команду — не двух, не трех, а, бывало, и двадцать человек.
Хорошо помню эти походы с папой в сады и парки, где всем все было поровну — и пирожки с повидлом, и мороженое с вафлями, и карусель, и чертово колесо... Он очень любил меня и, бывало совершал педагогические ошибки — первой вручал мороженое, или, видя мое нетерпение, "без очереди", раньше других усаживал в кабину какого-нибудь вертящегося колеса, или первой подсаживал в седло вожделенной для всех белой лошади на карусели. А потом с грустью признавался, что нарушил правило и "по знакомству" пропустил меня вперед. Спустя много лет я узнала, что одна из моих подруг запомнила, как на юбилейном, по случаю моего пятилетия, маскараде (я была в костюме снежинки, она — льдинки) папа выпустил меня на "сцену" первой, а она заплакала, потому что тоже хотела первой... И вот до сих пор не может забыть — так ей было обидно... Я бы рада была теперь пропустить ее, но поздно — мы давно не льдинки и не снежинки, да и папы нет с нами и никогда не будет.
Но то были издержки его любви. Зато сколько радостей он доставлял, когда шел с нами в театр, катал в зоопарке на пони, запевал на улице "А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер..." Мы подпевали ему и дружно шагали за ним, стараясь идти в ногу, хотя поспеть за ним было невозможно — он не ходил, он сам летел...
Но самыми любимыми были не эти походы всего двора, а наши с ним прогулки вдвоем.
В воскресенье, пока мама занималась уборкой — святое дело, которому никто не должен был мешать, — мы отправлялись с папой "в Москву", или, как он любил говорить, "в ГОРОД". Понятие "ГОРОД" было собирательное — Третьяковка, Исторический музей, улица Горького, "Артистическое" кафе в проезде Художественного театра, наконец, сам Художественный — все это и был ГОРОД, в котором у нас были любимые закоулки, дома, скамейки... Как сейчас, помню одну — а самом начале Тверского бульвара, где, устав, мы доставали приготовленные мамой бутерброды и, запивая их прямо из только что купленной бутылки виноградным соком, чувствовали себя на верху блаженства... Но самым любимым местом было конечно же "Артистическое" кафе в проезде Художественного театра. Но сначала — сам театр.
"В воскресенье мы идем в театр", — объявлял папа еще в понедельник, и не было ничего прекрасней этих многодневных ожиданий театра. В воскресенье рано утром начинались приготовления. Из шкафа доставался черный, для театра, почему-то всегда новый, хотя годами один и тот же, костюм, долго выбирался галстук, хрустела в маминых руках накрахмаленная белая рубашка. Мы выходили из дома задолго до начала спектакля, потому что в театр, говорил папа, нельзя бежать, в театр надо идти. Теперь-то я всегда опаздываю и вбегаю в зал с последним звонком. А тогда театр и впрямь начинался для нас с вешалки. Мы входили в еще пустое фойе Художественного, и приветливые, какие-то мхатовские, гардеробщицы встречали нас как старых знакомых. Тут же предлагали программку, выбирали бинокль, рассказывали, кто сегодня играет и даже чем именно заболела Степанова, которую заменяет Гошева. Мы никогда, как другие, не шли в буфет до начала. "Надо спокойно сесть и сосредоточиться... надо успокоиться", — говорил папа, хотя я, как мне казалось, была совершенно спокойна. А вот папа действительно волновался, как будто это была его премьера или ему предстояло сейчас выйти на сцену. Мне всегда казалось, что после спектакля актеры смотрят только на него — с таким неистовством он аплодировал, возвышаясь ростом над остальными зрителями. Театр на всю жизнь остался для меня самым удивительным местом, которое не кончается, не обрывается с концом спектакля. "Нельзя после театра, — говорил папа, — бежать на трамвай или спускаться в метро. Надо посидеть, подумать, отпраздновать наконец этот день..." И вот тогда-то мы шли в "Артистическое" и праздновали вроде бы не свой праздник. Но... в жизни, говорил папа, всегда есть место празднику.
В ту ночь, когда за ним пришли, они с мамой вечером (Восьмое марта, праздник!) были в театре. Я ждала их, хотя была уже старшеклассницей и моя жизнь теперь не всегда пересекалась с ними. Но так повелось, что я не ложилась спать, пока они не приходили, а сейчас, когда выросла, тем более, потому что самые интересные разговоры происходили за вечерним, можно сказать — ночным чаепитием.
Помню, уже после смерти папы мне удалось на лето устроить маму с сыном в маленькой гостинице под Москвой. Мама тогда подружилась с администраторшей Анной Романовной, у которой в жизни только и была радость, что эта гостиница и ее, часто из года в год постоянные, обитатели. И пока было можно, пока гостиницу не поставили на "спецобслуживание", туда с маминой помощью стали наезжать наши, точнее, мои друзья, которые давно стали общими. Мама чувствовала себя хозяйкой этого не ее дома, ответственной за то, чтобы всем, кто приезжал, было хорошо. И вот однажды очередная гостья, впервые попавшая в этот, по уверениям мамы, райский уголок, встретила на станции свою знакомую, от которой узнала, как здесь... УЖАСНО. Публика кошмарная, кормежка отвратительная, причем так дорого, что они с мужем вынуждены на ужин варить в номере гречневую кашу, природы никакой, вода с керосином, пляж грязный, лес вырублен, в кинотеатре одно... А навстречу им бежала моя мама. Что же ОНА сказала? Это рассказ моей подруги, и дальше я передаю его с ее слов. "...И бежит нам навстречу мама Фаня (так называли маму мои друзья). Глаза светятся, щеки пылают, в руках ключи от моего номера... "Женечка, — говорит, — как хорошо, что вы, наконец, приехали. Вы не представляете, как здесь прекрасно. Во-первых, какая здесь Волга — я часами сижу и смотрю. А какой пляж, ну прямо как на Алупке, — чистейший желтый песок. Лес совсем рядом, правда, не очень дремучий, зато какая сосна! А люди... Нет, Женечка, какие здесь симпатичные, приветливые, интеллигентные люди... А кормят как! Во-первых, вкусно, а во-вторых, очень дешево, мы с Сашкой укладываемся, нам хватает..." Та, которой все не нравилось и ни на что не хватало (а была она женой члена-корреспондента) посмотрела на маму с удивлением — она ничего не поняла. Да и где ей было понять?! Ей и в голову не могло прийти, что эта красивая, похожая на маркизу женщина впервые смогла поехать в Ленинград, когда ей исполнилось пятьдесят лет. Что она, закончившая два института, знавшая наизусть великих немецких поэтов, не только никогда не была в Германии, но и в Прибалтику попала под конец жизни и считала себя счастливой, что увидела наконец Вильнюс, и мечтала побывать там хотя бы еще раз. Что единственной ценной вещью в ее жизни были... шиншилла и серебряное кольцо с янтарным камешком. Что она всегда экономила на себе, но для гостей не было дома гостеприимнее и хлебосольнее. "Нищие, — смеялась мама, не разоряются..."