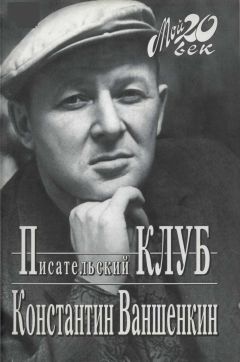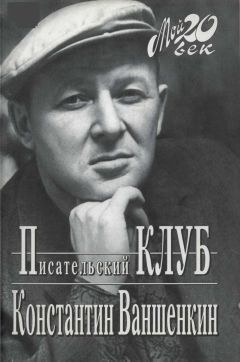Институт. Творческие семинары. Это было главным.
Отступало все — симпатии, дружба. Оставалась Литература.
Больной, контуженый подполковник присвоил чьи-то стихи, был разоблачен и изгнан безжалостно.
Были два или три студента — красавца, сердцееда — где-то на стороне. У нас девушки на них и не смотрели. Были отличники, круглые пятерочники, в университете или педагогическом они бы блистали, но только не у нас. Все они, в большинстве, были слабы в деле.
За долгие годы пребывания в Союзе писателей я присутствовал на самых разных обсуждениях. Но, поверьте, не слышал таких прямых, честных, порой жестоких, но почти никогда не желающих зла слов и суждений, как в институте. Не знаю случая, чтобы кому-нибудь это повредило. После семинарской читки и обсуждения иные с трудом добирались до общежития, здесь же, во флигеле, валились на койку лицом к стене, приходили в себя, осмысливали, отлеживались. Вот как это воспринималось. А над ними стояла тишина или, наоборот, продолжали кипеть страсти.
Одни переходили из семинара в семинар, искали руководителя по себе. Но почти все ходили на другие семинары из интереса или любопытства, желая узнать, как другие живут, что пишут, стараясь почерпнуть для себя полезное. Молодой Коваленков проповедовал раскованность, но железной рукой прививал вкус. Антокольский давал задания — написать сонет на тему: «Хлестаков» или «Октябрьская железная дорога». Винокуров выполнил оба задания. Не знаю, сохранились ли у него эти домашние работы. Я же, как это ни странно, в своей жизни не написал ни одного сонета.
Писали мы мало. Меня всегда смущало в молодости, когда я слышал о каком-либо поэте: «У него многообразные планы». У меня никаких планов не было, и появились они, лишь когда я начал писать прозу.
К известным писателям регулярно обращаются редакции газет и журналов с различного рода просьбами и предложениями. Замечательно, когда с самого начала воспитывается умение отказать. В противном случае — беда. Иной раз притворяешься, что очень занят, что много невыполненных обязательств, а, по правде, ничего не делаешь, чувствуя почти инстинктивно, что нужно набраться сил, «восстановиться». Я и в молодости, случалось, не писал по два месяца.
Но все равно постепенно набралось, накопилось, и мы решили втроем — Винокуров, Солоухин и я — выпустить одну общую книгу. Тогда такое еще не практиковалось. Мы составили и перепечатали рукопись. У нас с Винокуровым было много близких по теме и судьбе военных, армейских стихов, имелись стихи подобного рода и у недавнего кремлевского курсанта Солоухина. Поэтому мы сдали рукопись в Воениздат и даже отметили это событие. «Чтобы плавно шло, ни за что не задевало и страницы бы не вылетали», — сказал Солоухин. Нам обещали поддержку, но так ничего и не получилось. И, наверное, к лучшему, — довольно скоро наша рукопись распалась на три составные части, и у каждого из нас вышла отдельная первая книга (К. Ваншенкин. «Песня о часовых»; Е. Винокуров. «Стихи о долге»; Вл. Солоухин. «Дождь в степи»),
Винокуров был тогда широкий, щедрый, типично московский парень, никому не дающий спуску, готовый ввязаться в любую заваруху, но за себя постоять. Солоухин писал только стихи, где рядом с темой деревенского детства и природы звучали мотивы сказочные, романтические. Однажды поздним вечером он возвращался в общежитие. Неподалеку от института, на углу Сытинского переулка, что-то ремонтировалось, стояла оградка и горели две предупреждающие багрово — красные лампочки. Обжигая пальцы, он выкрутил одну из них и шел, размахивая ею над головой: ему казалось, что она должна продолжать светить и что он несет людям огонь, держит в руках факел.
В институте был период бурно возникающих и распадающихся, сменяющихся в различных вариантах дружб. Мало что от них сохранилось. Но ощущение единства, общности, принадлежности к одному клану — осталось.
Когда меня приняли в Литинститут и едва начались занятия, я в первый же день приблизился к висящему на стене большому сводному расписанию и изучал его, думаю, дольше других. Сначала бегло просмотрел, а затем повторно, медленно перебирал названия предметов, не в силах еще поверить, что среди них не было точных дисциплин. Наконец вполне убедился в этом и с облегчением отошел. Ведь я попал сюда из технического вуза.
Руководителями творческих семинаров в мое время были К. Паустовский, В. Катаев, К. Федин, П. Антокольский, М. Светлов и другие мастера, помоложе. Об этом писали многие. Но какие были у нас преподаватели, профессора, читавшие нам лекции! Они дали нам ничуть не меньше. Мы смогли оценить их по достоинству лишь многие годы спустя. А тогда мы были просто не готовы к этому.
Профессор языкознания Александр Александрович Реформатский. В просторечье — «Сан Саныч». Всеобщий любимец и одновременно гроза на экзаменах. Серьезный ученый, остроумный рассказчик, заядлый охотник, тонкий и он же грубоватый человек. Он знал каждого из нас насквозь — что мы пишем и чего мы стоим; называл нас по имени, но на «вы» и остался другом многих из нас. Помню его огромный, раздутый, незастегивающийся, потертый портфель под мышкой, — ручка была, по-моему, оторвана.
Братья Радциги. «Брадциги». Сергей Иванович, читавший античную литературу, и Николай Иванович, преподававший историю средних веков. Говорили, что они разошлись как-то в трактовке не слишком важного научного факта и не общались в связи с этим несколько лет. Сергей Иванович, совершенно белоголовый старец, во время лекции мог заплакать — от умиления при описании яркой картины или от огорчения, если бедный студент обнаруживал незнание, скажем, того, что изображено на щите Ахилла. Вообще его речь издали, из-за дверей, производила впечатление плача, рыдания.
Изящная, слегка ироничная Валентина Александровна Дынник (западная литература) и ее сестра Татьяна Александровна, читавшая — недолго — историю театра.
Валентин Фердинандович Асмус — редкостный пример современного энциклопедиста. Блестящий ученый в различнейших областях: литература, философия, эстетика, математика, астрономия. Иногда он производил впечатление человека немного «не от мира сего», что порой случается с классическими учеными. Но, думаю, так только казалось, или он слегка ограждался этим от нас, от нашего явно недостаточного для его лекций уровня.
В этом несоответствии вообще была наша беда. До сих пор стыдно за доклад о Тютчеве, сделанный мною на специальном семинаре у милейшего Сергея Михайловича Бонди. Но и это наука! Доклад был ужасным, поверхностным, а Бонди ничего мне даже не сказал.
Я тогда многое лишь узнавал. Я не был начитан, как иные наши бывшие литкружковцы или отличники. С детства запомнил некоторые стихи, не зная их авторов, что обыкновенно свойственно неопытному читателю. А о многих я и не слыхал.