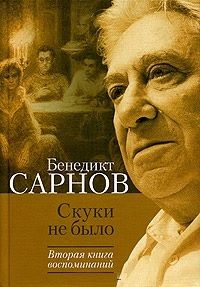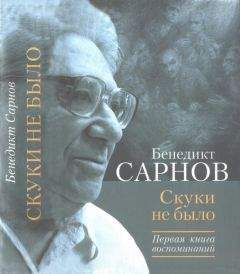Текст передачи был мною уже написан, сдан в редакцию, принят и одобрен. И вдруг я сообразил, что хорошо бы вписать туда еще одну страничку. Сути дела это не меняло, но передача от этого выиграла бы, стала бы лучше.
Повторяю: передача эта была «не моя», она была подписана другим именем. Так что авторское тщеславие, столь свойственное нашему брату литератору, тут никакой роли не играло. Текст передачи и без этой странички был вполне профессионален и даже хорош. То есть я хочу сказать, что писал его не халтуря, а выкладываясь с той же мерой ответственности, с какой писал бы его, если бы он шел в эфир под моей собственной подписью. Так что товарища, одолжившего мне на время свое имя, я этим текстом не подводил, репутацию его не портил. Стало быть, никакого практического смысла в том, чтобы сочинять эту страничку, тащить ее в редакцию, да еще уговаривать редактора вставить ее в уже готовую, принятую и утвержденную передачу — не было. Предприятие это не сулило мне ничего, кроме лишних хлопот, а может быть, даже и каких-нибудь мелких неприятностей: ведь редактор и так сделал мне одолжение, может быть даже не без некоторого риска для своей карьеры, — а я еще буду морочить ему голову этой своей злополучной и никому не нужной вставкой.
В общем, все доводы разума были против этой нелепой затеи. И тем не менее я не смог отказать себе в удовольствии осуществить ее.
Зачем я это делал? Почему?
Наверно, по той же самой причине, по которой старик Бернар стирал с какой-нибудь медной части своего суденышка случайно попавшую туда каплю.
Но могу ли я, как это хотелось Бунину в конце жизни, повторить вслед за стариком Бернаром: «Думаю, что я был хороший моряк»?
Куда там!
Сейчас, подводя, так сказать, итоги, я думаю: «Боже! На что ушла моя жизнь!»
И дело даже не в том, что, как замечательно сформулировал это мой друг Эмка, «годы растрачены на постиженье того, что должно быть понятно с рожденья». Это — общая наша судьба, судьба поколения. Но сколько лет было растрачено мною впустую в главном деле моей жизни, в моей профессии литератора!
В Малеевке, писательском Доме творчества, куда я ездил постоянно на протяжении многих лет, я познакомился, а потом и подружился с одним крупным ученым-физиком.
Академики и членкоры, надо сказать, любили писательские Дома творчества. С моим приятелем-физиком (тоже, кстати говоря, академиком) я вел долгий, многолетний спор о том, кого советская власть больше подкупает: писателей или ученых?
Физик, естественно, утверждал, что писателей.
— Конечно, вас! — доказывал он. — В системе Академии наук таких Домов, как ваша Малеевка, нету и в помине. Одно только несчастное Узкое. Но там у меня была бы крохотная комнатеночка, а тут мне дают две комнаты: спальню и кабинет. Не говоря уже о персональном санузле. Недаром же я каждый год запасаюсь кучей официальных просьб на разных красивых бланках и иду с ними в Литфонд, заискиваю, чтобы мне, в порядке обмена на какой-нибудь там вшивый Кисловодск, продали путевку в Малеевку. Или в Коктебель…
Этот наш спор, как я уже говорил, длился годами. И, наверно, никогда бы не кончился, если бы в один прекрасный день я не выдвинул формулу, которой, как говорится, закрыл тему.
— Вам, — сказал я, — платят за то, чтобы вы делали свое дело. А нам — за то, чтобы мы не делали своего дела. Ведь дело писателя состоит в том, чтобы говорить обществу правду.
Убедившись в невозможности реализовать — хоть в малой степени — это свое понимание общественного назначения нормальной литературной деятельности, я старался по крайней мере хотя бы не писать неправду, — не участвовать во всеобщей тотальной лжи, которой занималась вся официозная советская литература.
В конце 60-х я поэтому совсем отошел от занятий литературной критикой и практически перестал печататься.
Но жить-то надо было! И вот я стал заниматься «переводами».
Слово это я взял в кавычки, потому что «переводил» с языков, которые не знал, — кумыкского, чувашского, грузинского. То есть — с подстрочника. Практически это означало, что сплошь и рядом приходилось самому сочинять за авторов «переводимых» мною романов, поскольку сами эти их романы ни к черту не годились: не соответствовали даже тем минимальным требованиям, которые предъявляло к этим книгам издательство. (Всё это были книги для серии «Пламенные революционеры», которую затеял в то время «Политиздат».)
Вспоминаю грубый анекдот времен моего детства. Ввиду отсутствия масла высокое начальство поручает ученым научиться изготовлять сливочное масло из дерьма. Проходит время. Ученых вызывают в высшие сферы, спрашивают, как идет работа. Ученые отвечают, что кое-какие успехи уже достигнуты: полученную ими продукцию уже можно мазать. Но есть еще нельзя.
Вот к этому примерно и сводилась моя «переводческая» деятельность. Надо было добиться, чтобы полученную в ее результате продукцию можно было «мазать». О том, чтобы ее можно было «есть», никто даже и не мечтал.
Владеющая мною уверенность, что, уйдя из критики в эту довольно хорошо оплачиваемую халтуру, я ушел от участия во всеобщем тотальном вранье, была чистейшей воды иллюзией. Хоть и косвенно, я в этом вранье все равно участвовал. А кроме того, эта моя псевдолитературная деятельность и для меня самого была отнюдь не безвредна. Занимаясь ею, я невольно — сам того не замечая — калечил, уродовал, разрушал, растлевал свой… рука не подымается написать «литературный дар», может, никакого такого дара у меня и не было… скажу иначе: разрушал то, что худо-бедно все-таки было мне дано от природы.
Этим, впрочем, я не без успеха занимался и раньше, когда печатал в журналах и газетах свои критические опусы, вытравляя из них все живое, соглашаясь даже уже заранее причесанные свои мысли выражать не на своем, а на их собачьем языке — простое, естественное и такое, в сущности, безобидное: «в сталинские времена» заменять казенной, замызганной формулой: «В период культа личности…»
И так — всю жизнь! Во всяком случае — добрую половину жизни.
Мне как-то рассказали, что Арам Хачатурян, прослушав однажды какую-то раннюю свою вещь, воскликнул:
— Боже мой! Каким композитором я мог бы стать!
Я уже говорил, что не склонен особенно высоко оценивать свои дарования. Но оглядываясь назад, на прожитую жизнь, я думаю — не могу не думать — о том же.
Каким литератором — совсем не тем, какой из меня вышел, — я мог бы стать!
Когда б не пиль, да не тубо,
Да не тю-тю после бо-бо!..
Оформление форзацев книги:
использованы репродукции картин работы Бориса Биргера «Семеро» (1972) и «Маскарад» (1974).
_______________________ ______________
В годы моего студенчества едва ли не каждый из тех, с кем меня знакомили, говорил: «Послушайте! Почему вы так похожи на Эренбурга?»
Увидев впервые эту фотографию, я подумал, что такая улыбка у Эренбурга предназначена только для собак. И дальнейшие, более близкие отношения с Ильей Григорьевичем как будто подтвердили это первое мое впечатление.
Борис Слуцкий и его жена Таня. Они дружили с Эренбургом, и однажды он даже предложил им жить у него на даче.
Выступление на вечере Эренбурга в Доме-музее М. Цветаевой.
Виктор Борисович Шкловский:
«Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости».
Моя статья о Шкловском — как это ни удивительно — была напечатана. И даже без особых потерь. Отчасти это, конечно, было связано с тем, что XX съезд уже слегка поколебал устои партийной ортодоксии. Но главная причина этой моей удачи заключалась в том, что главным редактором «Вопросов литературы» в то время был Александр Григорьевич Дементьев.
Во время очередного нашего вечернего чаепития Виктор Борисович торжественно вручил мне только что вышедшую свою книгу о Толстом, сделав на ней длинную и витиеватую дарственную надпись. Что-то, конечно, по случаю такого события тогда было выпито, и домой от Шкловских мы с женой вернулись уже далеко за полночь. А рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Виктор Борисович: «Ну как? Вы прочли мою книгу?»
В книге было — ни мало ни много — восемьсот страниц.
У Виктора Борисовича была удивительная способность: во время шумного застолья, неизменно сопровождавшегося какой-нибудь бурной дискуссией, он мог вдруг прилечь на диванчик и минут пятнадцать сладко поспать, после чего поднимался — свеженький как огурчик — и как ни в чем не бывало продолжал разговор с того самого места, на котором он был прерван.