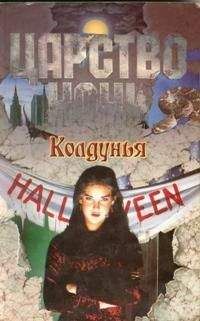Александр Исаевич посвящает этому потрясающую главу "Женщина в лагере", в которой рассказано и о кладовщике Исааке Бершадере. Но это – единственное имя мужчины-насильника во всей главе. В ней больше нет ни одного намека на национальность мужчин – покупателей женского тела. Между тем, Солженицын отлично знает, как знаю и я, что основную массу придурков-ловцов женщин (нарядчики, десятники, повара, хлеборезы, возчики) составляли блатные. И что блатари вообще жили куда вольготней и сытее пятьдесят восьмой, и все без исключения были в состоянии купить женщину за горбушку черного хлеба (о принуждении уж не говорю). И что вся практика покупки женщин – уркаческая, блатная. И что урки играли в карты на женщин. И что в блатном мире евреев были единицы.
Конкретизация – безотказно действующий писательский метод. Расскажите один случай со всеми деталями – и на читателя это подействует сильнее, чем тысяча аналогичных безымянных и обобщенных. Назван Исаак – назван еврей. Конкретизирован по национальности он один. Это и есть полуправда.
Вот еще страницы, на которых противопоставлены еврей и неевреи. Рассказана история одного бегства из СССР (часть третья, гл. 14). Фамилия беглеца неизвестна. Бежит он, ни много, ни мало, из сибирских лагерей – и добирается до Вены. Здесь "он надумал отправить деньги родителям в Одессу, для этого надо было обменять доллары на советские деньги. Какой-то еврей-коммерсант пригласил его менять к себе на квартиру, в советскую зону Вены. Туда и сюда непрерывно сновали люди, мало различая зоны, а ему было никак нельзя переходить. Он перешел – и в квартире менялы был взят".
Так пишет Солженицын. Донес ли еврей-коммерсант на беглеца или его самого тоже загребли вместе с ним? Этого писатель не говорит. Однако обращает на себя внимание дотошность его указаний по поводу национальной принадлежности тех, с кем беглецу пришлось столкнуться.
В Сибири, в стогу сена увидели его железнодорожный обходчик с женой. Они его не выдали, а еще и снабдили одеждой и едой, приговаривая: "Да мы же русские люди!"
Так, хорошо: русский не выдает. Не выдает и туркмен: в Средней Азии беглеца взял на работу (без всяких документов) председатель колхоза туркмен.
А в Вене его арестовали на квартире еврея-коммерсанта!
В этой истории нет ни одной выдуманной детали, скажут мне. Пусть так, хотя вся – из третьих рук. Она прошла через восприятие трех рассказчиков: самого беглеца, его сокамерника и, наконец, самого Солженицына. Будем надеяться, что расстановка акцентов сделана не Александром Исаичем.
Я вовсе не требую от писателя, как требуют того сталинские литературоведы, равновесия света и тени. Пусть будет неравновесие, пусть будет страстное обличение!
Но в душе писателя должна жить справедливость. Не бесстрастная объективность, но справедливость, не допускающая полуправды. Давным-давно известно: когда крадет русский, говорят: "украл вор", а если вор – еврей, скажут: "украл еврей". В каждой из этих фраз в отдельности – чистейшая правда. Но рядом с правдой – умолчание, и отсюда рождается ложь.
Так и здесь. Когда насилуют русские блатари, говорят: "Это сделали блатари". А когда насилует еврей, сказано: "Это сделал Исаак".
Мало знать правду. Надо еще без утайки говорить о ней. Иначе получается полуправда, которая указывает на предвзятость рассказчика. Предвзятость ослепляет.
Националист, к сожалению, почти всегда предвзят. Солженицын – русский националист, точнее – русско-украинский, хотя в наши дни такое смешение звучит несколько странно и означает ни что иное, как подчинение украинского национализма русскому. Таким националистом был и Гоголь. Предвзятость давит на националиста, будь он христианнейшим из христиан. Мне, опять же, возразят: Солженицын написал много горьких слов о России. Верно – о России, о русском государстве, о стране, о судьбе ее. Но не о русском человеке: его он всегда возносит.
Что ж, это его право. Но, возвышая своих, не принижайте других. Не любите нас, как самих себя, согласно евангельскому (точнее – библейскому) завету, бог с вами. Я, еврей, не вымаливаю любви. Требую я только справедливости.
* * *
Во имя справедливости я должен вспомнить здесь и о тех виднейших деятелях коммунистической партии, которые еще полвека назад решились смело сказать вслух о том, какая опасность грозит ей (и всему народу) изнутри. Сейчас, через полвека, немудрено увидеть воочию то, что они сумели разглядеть через толщу полувека.
Заметив начало непредвиденных перемен, тогдашние оппозиционеры выступили с предупреждением, изложив свои мысли в терминах того времени и того учения, которое было их учением. Они назвали эти перемены перерождением, термидором. Угроза термидора – вот главное, что тревожило их тогда.
Теперь, конечно, легко объявлять, что дело зашло глубже просто перерождения. Современному диссиденту нетрудно отбросить все, что говорилось до него и ныне забыто, и начинать историю освобождения мысли в советской стране с самого себя. Является ли такая самонадеянность признаком широты ума и признаком исторического мышления? Были мыслящие люди и до нас с вами, друзья мои. Они говорили на другом языке, ныне вам несвойственном и, может быть, даже неприятном, но говорили о том же – о свободе мыслить и высказываться.
Коммунистическая партия добилась власти – такова цель всех партий в мире. И добившись, занялась ее закреплением. Обладание властью имеет свою логику, обусловленную не только идеологией, но и внешними обстоятельствами – состоянием и прошлым своей страны. Свою логику – и свою инерцию.
В любой стране оппозиция властям необходима – а в России она, вероятно, была нужней, чем где бы то ни было. Без оппозиции власть катится, не встречая препон, в одном направлении – в сторону всевластия, попирающего тот народ, ради которого (и кровью которого) она, власть, была завоевана.
Логика власти и логика оппозиции резко различны. Власть экспериментирует на других – оппозиция же только предлагает отменить или изменить эксперимент. Но если она подвергается репрессиям – а так оно и происходило уже в двадцатых годах – и при этом не сдается, она тем самым проверяет на себе предупреждения об опасности всевластия. И проверка нередко стоит ей жизни.
К власти могут присосаться карьеристы, проходимцы, трусы и прочие мерзавцы. К оппозиции они тоже могут присоединиться, но ненадолго, особенно при наличии репрессий. Чем больше репрессий падает на участников оппозиции, тем энергичней идет отбор в ее рядах. Остаются, как правило, те, кто готов жертвовать не только своим обеспеченным положением, но и своей свободой, а то и жизнью, ради того, что они считают интересами революции и благом для будущего своей страны.