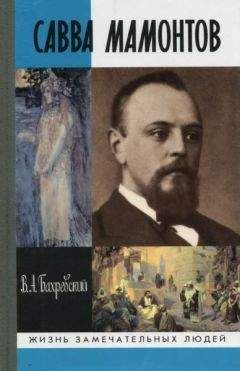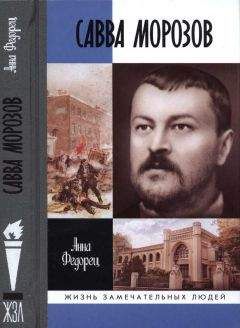— А почему Илья настроен против Дягилевской выставки?
— По глупости. Выставка уж тем замечательна, что весь модерн русский. Ни одной заграничной картины. Илья Семенович этому рад. А не хочет ничего отпускать из своей коллекции, потому что дал зарок. Дягилев одну из его картин после первой международной выставки вернул помятой.
— Савва Иванович! — с надрывом сказал Коровин. — Да посмотри же ты на меня. Что я тебе, чужой? Ну, слаб! Каюсь! За Шаляпиным потащился… Я в Петербург еду, найду Витте, буду говорить о тебе.
— Вот и хорошо, поговори, — сказал Савва Иванович, но на Костеньку все-таки не взглянул.
— Давайте о деле поговорим, — нахмурился Серов. — Савва, какая вина тебе вменяется? Мы были у твоего адвоката Муромцева — не знает. Были у Цубербиллера, это он нам дал разрешение на свидание, — тоже о твоей вине ничего не знает. С Кривошеиным говорили, с Чоколовым… В чем твоя вина?
— Я не знаю.
— Свидание окончено! — объявил тюремный надзиратель.
В автобиографических заметках «Моя жизнь» Коровин так написал о разговоре с Витте: «Сергей Юлиевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.
— Против Саввы Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок. И на обвинение его „Новым временем“ в растрате он как душеприказчик чижовских капиталов ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, предоставил отчет. Оставленные Чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, которое носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.
И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:
— Что делать, сердца нет…»
Весь Витте в этом разговоре. Солгал, показал дружелюбие к бедному, к чистому Мамонтову и возвел напраслину… на царя.
8
Палитра была приготовлена. Свет из окон лился матовый, но напоенный солнцем, — чудесный февральский свет, свет перед половодьем света.
Государь назначил время сеанса сразу после обеда, но задерживался. Валентину Александровичу было жаль потерять даже минуты этого дивного освещения.
— Я уже здесь, — сказал Николай Александрович, улыбаясь, занимая место. — Я правильно сел?
— Да, Ваше Величество. Вы совершенно точно запомнили все мои ужасные просьбы.
Серов взялся за кисти.
Работал молча, и государь молчал, чтобы не помешать художнику. За обедом выпили водки, с морозцу, и это молчание, этот загадочно-баюкающий свет из окна потянул в дрему. Лицо у государя стало открытым, доверчиво-детским, чистым. У Серова сжалось сердце: ему, художнику далеко не мировой известности, дано видеть государя так близко, таким… беззащитным. Как же он живет, великий самодержец, в этой круговерти тайных государственных дел, в этой узаконенной лжи, политической, придворной, семейной? Как он может нести на себе, молодой совсем, бесхитростный человек, это чудовищное бремя вожделений? Сколько глаз сверкает из тьмы, впивается в него, ожидая милостей, даров, чинов или только куска хлеба.
Государь открыл глаза, виновато улыбнулся:
— Кажется, сморило. Простите, Валентин Александрович!
И Антон решился. Он писал царя с воскресенья, с 13 февраля. Портрет был заговорщицкий, делался втайне от царицы. Николай Александрович собирался сделать ей нежданный подарок. Второй сеанс был во вторник. И вот пятница, третий сеанс.
— Ваше Величество! — Голос был глухой, и Антон вознегодовал на свою трусость. — Мой долг просить Ваше Величество о Мамонтове. О Савве Ивановиче. Мы все — Репин, Васнецов, Поленов, все наше множество, сожалеем о случившемся с Саввой Ивановичем. Он верный друг художников. Всегда поддерживал самое даровитое, новое, а потому непризнанное. Того же Васнецова, когда над ним хохотали, улюлюкали…
— Я уже сделал распоряжение, — сказал быстро государь, и глаза его просияли.
Валентин Александрович тоже улыбнулся:
— Спасибо, Ваше Величество… Я в этом деле разобраться не могу, ничего не понимаю в коммерции.
— Я тоже ничего не понимаю. — И, помолчав, прибавил: — Третьякова и Мамонтова я всегда почитал за людей, много сделавших для русского искусства.
И тут в комнату вошла царица.
— Ах, Александра Федоровна! — ужаснулся государь. — Вы нас изловили на месте преступления. Наша тайна погибла.
Александра Федоровна внимательно смотрела на портрет царя в тужурке, переводя глаза на оригинал.
— Значит, под видом, что пишете портрет Михаила Николаевича, вы делаете это.
— По-моему, это очень хорошо. Просто, — сказал государь.
— Ваше Величество, я с большим удовольствием пишу портрет их Высочества. Утром Михаил Николаевич любезно надел все свои ордена, всю амуницию и простоял в позе целый час. Я благодарен их Высочеству. Но этот портрет, в тужурке, я признаюсь, мне очень дорог. Он получается.
— Да, это благородно, естественно. Но, по-моему, лучше шотландского сделать невозможно.
— Этот в помощь тому, — сказал Николай.
— Прекрасно! И все-таки я забираю тебя у Валентина Александровича.
Царь развел руками.
— Покоряюсь, — и спросил Серова: — Вы не против, если мы отложим сеанс до воскресенья?
— Я не против, Ваше Величество.
Царственная чета удалилась. Серов сел на стул. Сердце радостно стучало: Савва на свободе. Но хорошо, что хватило духу сказать о нем. А вот царице возразить духу не хватило: шотландский портрет Николая плоховат.
9
В тот же день 18 февраля 1900 года Поленов писал Виктору Михайловичу Васнецову: «Спешу сообщить тебе радостную весть, которую сейчас привезла мне Вера. Савва Иванович завтра переводится на домашний арест. Он выбрал для этого гончарную мастерскую за Бутырками. Мне кажется, что не шире ли будет, если мы поднесем ему оба завета — и Новый, и Ветхий, т. е. всю Библию, тем более что он из Ветхого Завета два раза черпал вдохновение для своих литературных созданий. А кроме того, можно прибавить что-нибудь хорошее из русской истории или поэзии. Всякий дар будет теперь ему впрок, так как все его достояние будет на днях продано».
Сделан был подсчет убытков, причиненных крахом Мамонтова. И снова творился чудовищный грабеж среди бела дня.
Молодой Солодовников приобрел почти что даром ценности Мамонтова и его семьи. Дельцы Грачев и Вишняков завладели самым богатым предприятием Северного Лесопромышленного общества. Грачев стал хозяином лесов стоимостью в сотни тысяч рублей, а скорее всего, в миллионы. Вишняков завладел недвижимостью — заводами.