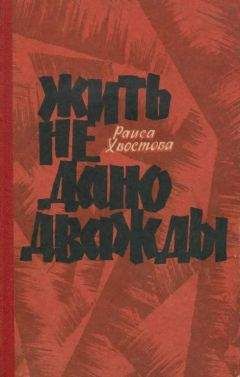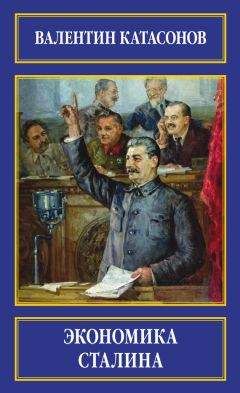Ароська! Милый! Ты, конечно, обратил внимание, что в своих письмах я избегаю описывать тебе свои впечатления. Мешает боязнь, неумение выразить свои чувства красочно. А быть тривиальной, повторять шаблонные, избитые фразы так не хочется. Поэтому устно, все расскажу устно, прямо из уст в уста. Одно могу сказать ― все здорово здесь, чудесно. Все мелочи быта отступают на задний план.
Дорогая детка! Пиши мне, как работается! Был ли ты у Топора? Что наша дочка, как себя чувствует, что болтает и поет нового? Ты ведь обещал мне писать подробно, подробно.
Между прочим ― о моих делах. Хотелось бы поехать в Сухум, Батум, Тифлис ― как говорила. Но мало денег. Наш сотрудник (он отдыхает здесь) передаст Топору мое письмо. 5/ XI справься у него, думает ли он прислать мне деньги, и немедленно телеграфируй мне.
Целую крепко. Рая
P.S.
Артур Маркович посвящен в мои деловые треволнения и сумеет лучше, нежели я могу написать, объяснить тебе, что меня смущает. Целую, Ароська, Соньку и Настю[99]. Скучаю отчаянно.
Рая
Арося ― Рае
(6 ноября 1934 г.)Здравствуй, моя дорогая! За все время твоего отсутствия меня сопровождают, во всем, что бы я ни делал, ― волнения из-за неполучения от тебя писем.
1 ноября я уехал в Ожерелье, получив от тебя только одну телеграмму (не считая первого письма). В Ожерелье, увлеченный работой, я немного забылся, но пятого числа волнения опять нахлынули на меня, я взял билет на саратовский поезд и поехал ― в надежде, что дома есть письма.
И действительно, только вчера получены две открытки и письмо через гражданина, которого я не видел.
Я совершенно не понимаю, куда деваются письма, которые я тебе посылаю. Это письмо пятое, и я не уверен, что оно к тебе дойдет.
В Ожерелье я чрезвычайно продуктивно и хорошо работаю, втянул всю бригаду в писание книги. Жил я до 5/XI вместе с ними в общежитии ― стал среди них своим человеком. Те из минаевцев, которые умеют сами писать, пишут сами, а не умеющие диктуют, а я записываю. Все интересующее меня я тут же на месте и выясняю. Пока я обработал только пять человек, но материала набрал очень много. Головащенко ― это клад, а не человек, он мне все абсолютно рассказывает, и мы с ним большие приятели (как видно, для укрепления дружбы придется распить с ним пол-литра).
Вообще, очень много впечатлений, о них я расскажу, когда приедешь.
Сегодня опять уезжаю в Ожерелье.
Милая моя лапонька ― я очень обеспокоен состоянием твоего сердца. Ходи поменьше. Подъемы на гору ― как бы человек ни был толст, но если у него больное сердце, он не похудеет. Это только вредит. Меньше купайся.
За пять дней, которые я отсутствовал, Сонечка определенно подросла.
Мандарины она называет «падолинам», естественно, что раз есть «падолинам», то должно быть «по загорьям». Таким образом, она говорит ― «дай мне падолинам и загорьям».
Никак не сумею поговорить с Топором, сегодня уезжаю, перевожу тебе 75 рублей, если поедешь в командировку, обязательно сообщи.
Раинька, так соскучился по тебе, что ты себе и представить не можешь. Никогда так не скучал. Целую, милая, тебя тысячи тысяч раз. Получила ли ты мои снимки и Сонечкины? Три ночи подряд не спал ― проявлял и печатал их. Сейка освобожден от Красн. Армии, в Бирюлеве освятили дом, купил несколько хороших книг ― вот и все домашние новости. Пиши почаще, моя Лапонька, моя пятипудовая крошка. Когда ты приедешь, то я в сравнении с тобой буду, наверно, белым, как финн, и легковесным (без сравнения). Но так и должно быть ― у хорошего мужа жена толстая, а у хорошей жены муж толстый. Не обижайся, это я в шутку.
Дорогая моя, страшно хочется тебя скорее увидеть. Целую, целую все 68 килограмм, весь воздух вокруг тебя, тень твою.
Арося. 6/Х1- 34 года Москва
Рая ― Аросе
(декабрь 1934)Добрый день, мое милое, яркое, скорбящее Солнышко! Тени, падающие на твое личико, должны быть согнаны немедленно. Ведь в чем ты обвиняешь меня, мой маленький? Что роскошь и комфорт, все эти ванные, потолки, портьеры, гардины и пр. пр, а главное, танцы, музыка и ужины в ресторане Европейской гостиницы каким-то образом повлияют на продолжительность моего пребывания в г. Ленинграде. В этом перечне соблазнов, держащих меня, по твоему представлению, в цепких несокрушимых объятьях, мой единственный друг забыл назвать самое главное. Мою работу. А кто говорил моему маленькому, что если за внешней формой явлений забыть об их внутренней сущности, то это значит вообще искривить действительность, исказить, представить ее в уродливом, неверном виде. Я много раз говорила тебе об этом. И если бы ты, маленький, лучше слушал свою малютку, ты никогда бы не забыл, что главное в Лен-де для меня ― это моя работа, исключительно яркая, интересная, полная необычайных и трогательных переживаний. Я знаю, что ты воображаешь меня непременно сидящей в каком-нибудь ресторане, танцующей фокстрот, смеющейся, болтающей. А между тем, это далеко не так. Твоя Раинька, конечно, вырвала как-то минутку и потанцевала фокстрот в стиле «рюсс» ― не жеманно, а весело-непринужденно, и даже сорвала несколько аплодисментов, но, мое Солнышко, это были украденные минутки. Они даже необходимы были!
Ведь все остальное время я разговариваю с людьми, которые близко встречались с Сергеем Мироновичем Кировым. Ведь я бережу их раны. Вспоминая его, рассказывая о встречах с ним, о его душевной простоте и теплоте, ― многие из них тяжело и горько плачут. И часто, часто ― самое редкое один раз, плачу и я, плачет стенографистка. Я уже читаю эту, еще не написанную, созидаемую нами книгу, которая многих и многих еще взволнует. Нет, о том, что Кирова нет, нельзя вспоминать без отчаянья. Это был гениальнейший человек, величайшей воли ума и сердца. И чем больше я работаю, тем тяжелее переживаю я всю горечь этой потери.
Мое Солнышко! У каждого своя мировая скорбь ― это сказано хорошо. Мы переживаем сейчас величайшую скорбь ― она есть моя скорбь, она должна стать и твоей.
Мое отсутствие ― конечно, это печально, но сознание того, что я работаю, в сущности, над одним из памятников, показывающих подлинную, яркую народную скорбь и вместе с тем гнев и ненависть величайшего из народов, ― это сознание должно стать твоей гордостью. Мы развернули колоссальную работу самым широким фронтом. Создана такая «цепочка» познания и выискивания людей, когда почти каждый с нами разговаривающий вспоминает и указывает то или иное лицо, близко встречавшееся с т. Кировым.
Поэтому каждый день ― новые и новые люди. И ведь от каждого из них жалко отказаться. Большое количество собранных воспоминаний позволит нам сделать лучший отбор наиболее ценного материала. Но уже с 25/XII я уплотняю дни встреч. Размах все уже. 29/XII думаю круг замкнуть, и если удастся, в этот же день уехать. Во всяком случае, только дело удерживает меня здесь. Ведь я до сих пор нигде не была (только в первый день приезда ― в кино). Тебе, наверно, известно, что другие члены нашей бригады уже вернулись в Москву. Это, конечно, усложнило работу и замедлило ее темпы, но сделать ничего нельзя. И Резник, и Кацнельсон учатся. Это письмо надеюсь передать с Топором, который неожиданно приехал сюда. Телеграмма его о том, чтобы задержать Резника и Кацнельсона (и я ― за), была послана, к сожалению, не мне, а на кабинет и получена 24/XII, т.е. в тот день, когда Кацнельсон, оказывается, уже был у Топора. Конечно, если бы я сумела удержать их (на основании телеграммы Топора это, конечно, удалось бы, а меня они совсем не слушались и, несмотря на мое прямое распоряжение об отъезде 24/XII, они самовольно купили себе билеты на 23/XII), работу определенно сегодня можно было бы закончить. Но надо тебе сказать, что Леня Кацнельсон очень вспыльчив и мнителен, а Резник ― демагог, так что работать было трудно.