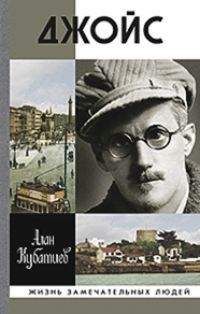Джойс принял Эйзенштейна в комнате с завешенными окнами, где они стояли и беседовали об «Улиссе». Остальная часть квартиры и прихожая были ярко освещены, однако, вспоминает Эйзенштейн, «этот высокий и слегка сутулый человек почти без фаса — настолько резко отчетлив его профиль красноватой кожи и огненных с густой проседью волос — почему-то странно размахивает руками и шарит по воздуху… И только сейчас я соображаю, до какой степени слабо зрение в отношении окружающего мира этого почти слепого человека, чья внешняя слепота, вероятно, обусловила ту особенную пронзительность внутреннего видения, с которой описана внутренняя жизнь в „Улиссе“… удивительным методом внутренней речи».
Впоследствии Эйзенштейн подведет итог этой встречи знаменитой фразой — «Великий человек! Он по-настоящему делает то, что все мы только хотели бы сделать, потому что вы это чувствуете, а он знает». Через два года Сергей Михайлович прочтет в Государственном институте кинематографии большую лекцию о Джойсе.
Стюарт Гилберт набрасывал сценарии по «Улиссу» и «Анне Ливии Плюрабель», против чего Джойс тоже не возражал, но при его жизни у кино не оказалось шансов стать вровень с литературой. «Улисса» экранизирует Джозеф Стрик лишь в 1967 году, а следующая версия, «Блум» Шона Уолша, выйдет в 2003-м и особого фурора не произведет. Лучше всех, пожалуй, будут «Мертвые» Джона Хастона, которые тоже выйдут только в 1987-м.
Переводы его книг на иностранные языки очень импонировали Джойсу, но и тут случались огорчения. Японцы в феврале 1932-го выпустили пиратскую версию «Улисса», и безотказному Леону пришлось писать британскому консулу в Токио, где адвокаты выяснили, что европейские права действуют на территории Японии всего десять лет. Джойсу посулили какую-то скромную сумму, и он негодующе отказался от нее.
Одновременно приходилось заниматься делами Лючии. Джойса приводила в ужас даже не ее болезнь, а то, как она повторяет начало его судьбы, — стойкую неприязнь к матери и непрестанную тягу к отцу… Подошло время ехать в Цюрих к Фогту, показывать ему правый глаз с растущей катарактой. Жола были неподалеку, в Фельдкирхе, и Джойс решил взять с собой Лючию. Мария Жола согласилась приглядеть за ней, а одну из сестер клиники наняли для более квалифицированного ухода. Леон пытался убедить его показать Лючию серьезному врачу, но Джойс и слушать не хотел.
Перед отъездом Уильям Берд взял их на автопрогулку по Булонскому лесу. Джойс поразительно хорошо ориентировался там и показывал дорогу, в итоге приведшую их к ресторану; Нора тут же запротестовала, но Джойс пообещал, что ограничится одной бутылкой шампанского. Нора не соглашалась, но после шампанского в ход пошел железный аргумент — Джойс попросил Берда проводить его до мужского туалета, потому что не видит ступенек. Как только Нора потеряла их из виду, Джойс живо остановил Берда и сказал:
— Берд, я могу больше никогда вас не увидеть. Не окажете ли мне услугу?
— Любую, — ответил Берд, — но мы встретимся с вами еще много раз…
— Встретимся, разумеется. Но завтра я еду в Цюрих на новую операцию и чувствую, что в этот раз могу вернуться слепым. Поэтому я сказал, что могу никогда вас не увидеть.
Тронутый Берд попытался утешить его:
— Джеймс, я всегда сделаю для вас все, что могу…
Джойс нащупал его локоть и радостно сказал:
— Тогда пошли закажем вторую.
Разъяренная Нора, увидев шампанское, потребовала такси, но Берд проводил ее до машины и пообещал, что доставит ее мужа домой не позже чем через полчаса. Он сдержал слово — правда, спустя три часа.
Полулегально забрав Лючию с медсестрой из клиники, Джойс увез их в Фельдкирх, оставил у Жола и убедил дочь продолжать работу над буквицами, а сам уехал с Норой в Цюрих.
Фогт встретил его неласково: Джойс не показывался два года подряд, вместо договоренных частых консультаций, и оправдания, что на него сваливалась неприятность за неприятностью, не сняли главной проблемы: состояние правого глаза ухудшилось до почти неминуемой слепоты. Можно было попробовать сделать сразу две операции, но и тут уверенность в улучшении была небольшой, однако уже можно было прооперировать и левый глаз. Джойсу было твердо сказано, что состояние его нервов отражается на зрении; но какой мог быть покой для отца сходящей с ума дочери? Джойс написал докторам Харманну и Коллисону в Париж, и они категорически не согласились, что левый глаз следует оперировать сейчас. Даже Лючия написала ему об этом.
Джойс злился — ему достался «лучший в мире офтальмолог, живущий в худшем климате мира». Жола осторожно намекали, что Лючия очень плоха, но это его не убеждало, хотя и тревожили ее совершенно бессвязные речи. Она требовала разрешить ей приехать в Цюрих, и родители, опасаясь, что Жола станут свидетелями сцены вроде той, что сорвала отъезд в Лондон, сняли номер в отеле и пробыли с ней в Фельдкирхе с августа по сентябрь. Поначалу Лючия была спокойна, терпеливо работала над шрифтами, а Джойс писал Леону и Пинкеру, что делает книгу детских стихов по алфавиту. Им надлежало подготовить ее продажу. Алфавит был сделан до буквы «О». Кое-что удалось использовать в факсимильном издании «Яблок по пенни», выпущенном в октябре 1932 года. Несмотря ни на что, Джойс дописал несколько кусков для начала второй части «Поминок…», а в самом начале сентября вернулся в Цюрих, к Фогту, готовый лечь на стол; пресса уже обсуждала возможную трагедию, но Фогт после осмотра и оценки состояния глаза отложил операцию. Разрез пришлось бы делать сквозь хрусталик, а это почти наверняка грозило травматическим иритом, способным поразить второй глаз; он был сейчас получше, но перенес много операций и мог просто отказать. Спустя год-другой глаз восстановится и даст шанс. Джойсу поменяли его чудовищно сложные очки, и Фогт сердито посоветовал ему приезжать каждые три месяца для осмотра.
Отсрочка взбодрила Джойса: с утра он подолгу ходил с Жола вдоль реки Илль, взбирался на холмы, и торжественно возглашал: «Реки и горы останутся, когда исчезнут все народы и их правительства…» После полуденного отдыха он снова гулял — до первой вечерней рюмки. А до нее он встречал экспресс Париж — Вена, останавливавшийся в Фельдкирхе на десять минут. Полчаса до поезда он степенно прохаживался по платформе. Эжену Жола Джойс рассказывал, что в таком поезде решилась судьба «Улисса»; в 1915 году его переезд в Швейцарию задержался именно тут. Он ощупывал рельефные надписи на вагонах, слушал, что и на каких языках говорят пассажиры, расспрашивал о них Жола, а когда поезд трогался, Джойс махал шляпой, словно провожая дорогого друга. В восемь часов он входил в отель на встречу с первым стаканом «Тишвайна».