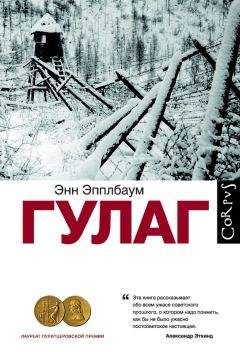Аресты на оккупированных территориях начались сразу же после советского вторжения в Восточную Польшу в сентябре 1939‑го и продолжились после вторжений в Румынию и Прибалтику. Целями НКВД были безопасность (предотвращение восстаний и возникновения “пятой колонны”) и советизация. Поэтому в первую очередь забирали тех, кого считали потенциальными оппонентами советского режима. В их число попали не только люди, работавшие в польских органах власти, но и торговцы и бизнесмены, поэты и писатели, зажиточные крестьяне – словом, те, чей арест в наибольшей мере мог способствовать психологическому подавлению населения Восточной Польши[1507]. Хватали также беженцев из оккупированной немцами Западной Польши, среди которых были тысячи евреев, спасавшихся от Гитлера.
Позднее критерии для ареста стали более точными (в той мере, в какой могли быть точными критерии для ареста в СССР). В “Директиве о выселении социально-чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии”, датированной маем 1941 года, говорилось, что выселению подлежат “активные члены к/р организаций” (то есть политических партий) и члены их семей; бывшие жандармы, охранники, полицейские и тюремщики; бывшие крупные помещики, торговцы, фабриканты; бывшие офицеры, “в отношении которых имелись компрматериалы”; члены семей всех вышеперечисленных; репатрианты из Германии; “беженцы из бывшей Польши, отказавшиеся принять советское гражданство”; и наконец, уголовный элемент и проститутки[1508].
В другой директиве, изданной в ноябре 1940 года и касающейся Литвы, сказано, что, помимо указанных категорий, выселяются лица, часто выезжавшие за границу, лица, состоящие в переписке или поддерживающие контакты с иностранцами, эсперантисты, филателисты, сотрудники Красного Креста, беженцы, контрабандисты, лица, исключенные из коммунистической партии, священники и активные члены религиозных объединений, аристократы, землевладельцы, богатые коммерсанты, банкиры, промышленники, владельцы гостиниц и ресторанов[1509].
Аресту подлежали все, кто нарушал советские законы, в том числе законы, запрещавшие “спекуляцию” (т. е. фактически всякую торговлю), и все, кто пытался перейти через советскую границу в Венгрию или Румынию.
Масштабы депортаций были таковы, что советским оккупационным властям очень быстро пришлось отказаться даже от видимости законности. Лишь очень немногие из взятых на новых западных территориях прошли через следствие и суд и получили приговор. Вместо этого была снова взята на вооружение “административная высылка”, практиковавшаяся еще в царской России и использованная затем против “кулаков”. “Административная высылка” означала простую вещь. Сотрудники НКВД приходили в дом и приказывали людям собираться. Иногда на сборы давали день, иногда несколько минут. Людей на грузовиках везли на станцию, сажали в вагоны, и эшелон отправлялся. Не было ни ареста, ни суда – вообще никакой официальной процедуры.
Количество высланных было огромно. Согласно оценкам историков, на оккупированных территориях Восточной Польши по обвинению в контрреволюционных преступлениях было арестовано около 108 тысяч человек. Этих людей отправили в лагеря. Еще 320 тысяч граждан довоенной Польши были высланы в “спецпоселки” (некоторые из них построили “кулаки”) в северных и восточных районах СССР[1510]. К ним нужно добавить 96 тысяч арестованных и 160 тысяч высланных граждан прибалтийских стран и 36 тысяч молдаван[1511]. Совокупное действие депортаций и войны на демографическую ситуацию в Прибалтике было колоссальным: например, население Эстонии с 1939 по 1945 год сократилось на 25 процентов[1512].
История этих депортаций, как и история высылки “кулаков”, отлична от истории ГУЛАГа как такового, и, как я уже сказала, исчерпывающий рассказ об этом массовом выселении семей лежит за пределами моей книги. Однако полностью отграничить одно от другого невозможно. Очень часто трудно понять, почему “органы” из двух людей с похожими биографиями одного решали выслать, а другого арестовать и отправить в лагерь. Иногда муж оказывался в лагере, а жена и дети – в спецпоселке. Или сына арестовывали, а родителей высылали. Некоторые, отбыв лагерный срок, затем отправлялись в ссылку и соединялись с депортированными ранее членами своей семьи.
Помимо устрашения, у депортаций была и другая цель, связанная с реализацией грандиозного плана Сталина – заселить север страны. Места для спецпоселков, как и для лагерей ГУЛАГа, намеренно выбирались в отдаленных районах, и они создавались в расчете на постоянное проживание. Многим депортируемым чекисты говорили, что они никогда не вернутся обратно, в эшелонах их поздравляли как “новых граждан” СССР[1513]. В спецпоселках местные начальники часто говорили ссыльным, что Польша, ныне разделенная между Германией и Советским Союзом, никогда больше не будет существовать. Один советский учитель сказал польской школьнице, что возрождение Польши не более вероятно, чем то, что “у тебя на ладонях вырастут волосы”[1514]. Между тем в городах и деревнях, откуда выселяли людей, шла конфискация и перераспределение их имущества. Их дома превращали в общественные учреждения – школы, больницы, родильные дома; домашнюю обстановку и утварь (вернее, ту ее часть, которую не разворовали соседи и сотрудники НКВД) использовали для детских домов, яслей, больниц, школ[1515].
Ссыльные страдали едва ли не больше, чем их соотечественники, оказавшиеся в лагерях. Там хотя бы была ежедневная пайка хлеба и место на нарах. Депортированные зачастую не получали даже этого. Их привозили на голое место или в крохотные поселки в Северной России, Казахстане, Средней Азии, где нередко они не имели никаких средств к пропитанию. Тем, кто попал в первую волну депортаций, запрещали брать с собой что-либо из кухонной утвари, одежды, инструментов. Только в ноябре 1940 года Главное управление конвойных войск НКВД отменило эту практику: даже советским властям стало ясно, что отсутствие у высланных самого необходимого ведет к высокой смертности, и, как я уже писала, сотрудникам на местах было велено говорить депортируемым, чтобы они брали с собой теплых вещей на три года[1516].
Тем не менее многие высланные ни физически, ни психологически не были готовы к жизни в лесу или в колхозе. Сам пейзаж казался чужим и мрачным. Одна женщина описала в дневнике то, что она видела в окно вагона: “Нас везут через бескрайние просторы. На этой громадной равнине населенные пункты попадаются лишь изредка. Неизменно мы видим грязные и убогие глинобитные хаты с соломенными крышами и маленькими окошками. Ни заборов, ни деревьев…”[1517]