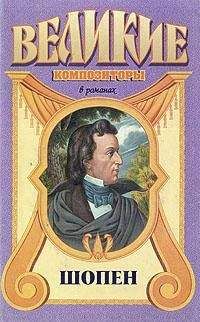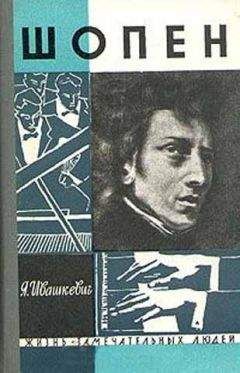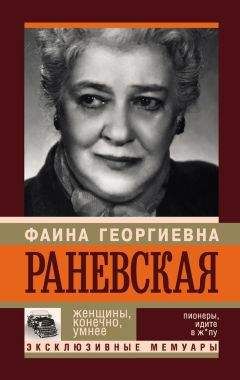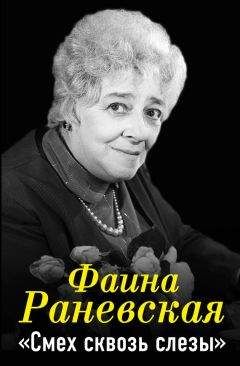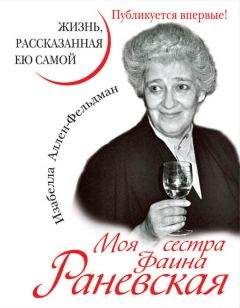«Шопен, нежный гений гармонии…» Теперь можно приступить к работе на основании тех фактов, которыми я располагаю. Письма, документы, отзывы, дневники. Я не имею права доверять только себе: я очень любил его, а это, говорят, мешает верному суждению. Но… тогда что же помогает верному суждению? Неприязнь, равнодушие, ненависть?
Да, факты, факты… Бог их знает. Мне почему-то вспоминаются слова Бальзака: «Глупо, как факт»! Порой самые достоверные факты оставляют нас в недоумении. Когда берешь всю человеческую жизнь в целом, очень трудно иногда установить истину…
…Нет, в самом деле! Я читал биографию Баха, составленную добросовестным ученым, Николаем Форкелем. Видно, что он не жалел сил, расспрашивал потомков, не оставлял без внимания ни одного письменного свидетельства. Он любил Баха, иначе зачем же предпринимать столь гигантский труд? Но он не доверял этой любви (как я теперь не доверяю!). Ему нужны были факты. И вот он приводит отрывок из письма, в достоверности которого не приходится сомневаться.
Бах жалуется на хорошую погоду, которая, против обыкновения, установилась в Лейпциге ранней весной. Солнце светит, воздух чист, и это не нравится Баху, так как при подобной погоде жители города н е заболевают гнилой весенней горячкой. Отсюда неприятное следствие: мало похорон, и нет работы для музыканта, зарабатывающего на проводах покойников. Но подумайте, господин Форкель: мог ли подобную античеловеческую мысль высказать тот, кто написал «Страсти по Матфею»? Разумеется, не мог, ибо в противном случае правы те нечестивцы, которые говорят, что музыка ничего не выражает! Не мог, потому что «Страсти», как и вся музыка Баха, – это воплощение высокой человечности и благородного разума! Надеюсь, вы не станете это отрицать? Тогда скажите, сударь: что следует считать более достоверным фактом – отрывок ли письма, приведенный вами, или произведение искусства, которое потрясает наши души?
Форкель разводит руками и бубнит:
– Однако письмо было написано!
Гм! Я дорого дал бы, чтобы достать это письмо и прочитать его целиком. Я не сомневаюсь, что те убийственные слова имеют иронический смысл. Я просто уверен в этом, господин Форкель! Но – увы!
Несмотря на мои усилия, письмо не удалось найти, а я искал его! И, взвесив на внутренних весах мои чувства, я склонился к тому, что творения Баха достовернее всего, что даже сам он может о себе сказать!
Интересно, что скажет Форкель? Он был хороший человек, и ограниченным его назвать нельзя. Но он ищет истину. И опять он разводит руками и повторяет:
«Если верить тем чувствам, которые возбуждает музыка, и вообще если верить чувствам, то решения будут субъективные!»
…Э, субъективное! Объективное! Не всегда можно провести отчетливую грань между этими понятиями в таком деле, как искусство! В жизни композитора достоверна только музыка! А остальное? Ну, даты – рождения, смерти, поступления в школу, женитьбы, – хотя вы, господин Форкель, знаете, что и метрики и записи о браке очень подводят иногда. Ведь у вас там с Бахом произошла изрядная путаница! Ну, хорошо, известны некоторые факты. Но, во-первых, они порой чертовски противоречат один другому! А во-вторых: как они влияли на судьбу? Кто может об этом сказать всю истину? Что нам известно о думах великого человека, об его отношении к миру, к действительности? Что это, в конце концов, была за личность? А ведь это нас более всего интересует! Кто же откроет правду? Он сам? Как бы не так! Если бы вы видели, как я стучался к Шопену, как ходил вокруг да около, чтобы выжать у него хоть одно словечко! Он охотно говорил со мной, но о себе – о нет, этого я не мог добиться! А ведь он хорошо относился ко мне!
Письма? Представьте себе, что все письма к Лукреции он сжег, почти все, за исключением самых незначительных, где он пишет: – Привет вашим милым детям! – Или: – Кладу свой нос к вашим ножкам! – Очень много это мне говорит! «Милым детям»! Надо знать его мучительные отношения с этими детьми!
Его письма, как, впрочем, и письма других людей, всегда кажутся мне немного подозрительными. Он очень искренний человек, но ведь не обо всем пишешь! Родителям он сообщал, что ему очень хорошо, как раз тогда, когда ему было очень плохо. Судя по его письмам к Фонтане, которого он всегда обременял поручениями, можно было подумать, что наш Шопен эгоист. А я вызвал бы на дуэль каждого, кто стал бы при мне это утверждать, ибо я, как и другие, знаю, какой это был друг и прекрасный товарищ. Он, задыхаясь, поднимался несколько раз по лестнице к одному издателю – только для того, чтобы поговорить о делах малознакомого музыканта, попросившего его об этом. Судя по отзывам Шопена о самих издателях можно подумать, что он человек практический, – боюсь, что таким и изобразят его биографы, – который себя в обиду не даст! А всем известно, что издатели начисто ограбили его и он ничего не скопил на черный день.
Нет, я не верю ни письмам, ни дневникам! Содержание писем зависит от того, кому они адресованы. А дневники? Ах, господин Форкель, человек бывает неискренен даже с самим собой! А уж кто верит в свою будущую славу, тот невольно думает о том, как отнесется к его признаниям потомство. Вот почему я уже давно не веду дневников!
И свидетелям не всегда можно верить. Ни близким людям, ни дальним. Между прочим как раз дальние охотно сообщат вам все подробности, они наговорят вам с три короба, и многое будет ложью. Так поступала Лукреция, или Лелия, которую он любил (я считал ее дальней!). Все они дальние, и даже та, которая сейчас дорога мне, без которой мне трудно представить себе мою дальнейшую жизнь, даже ей я не отважусь поведать то, о чем говорю с вами, господин Форкель, или, вернее, призрак господина Форкеля!
А близкие? Вспомните, уважаемый друг, ваши беседы с сыновьями Баха! Много ли достоверного сообщил вам Филипп-Эммануил? Вы были ошарашены его благодушным рассказом об отце, вы не могли прийти в себя от его несправедливой оценки. Он считал своего отца устарелым, помните? А другой сын, Иоганн-Христиан, – как он был равнодушен! Ну, хорошо, вы скажете, что и они дальние, – ведь кровное родство еще ничего не значит! Но возьмем близких, очень близких и справедливых! Хорошо, если они пожелают поделиться с вами тем, что знают, а главное – тем, что чувствуют! Но они-то как раз и скрывают истину, вы заметили? Скрывают-за так называемыми фактами!
Скажу вам откровенно, письмо мадам Луизы огорчило меня, хотя я ее понимаю. Она даже о болезни написала осторожно: – Его сердце было сильнее затронуто, чем легкие… – Как они боятся слова «чахотка»! Но не в этом дело. Мадам Енджеевич писала: родился тогда-то, с таких-то лет начал учиться, тогда-то проявил склонность к музыке. Но если бы она написала хоть одну такую строчку: – Он был веселый, милый, добрый ко всем, мое сердце радовалось, когда он, бывало, подойдет ко мне и поздравит с днем рождения – от всей души, со всей любовью! – Если бы она написала нечто подобное, с какой энергией я взялся бы за работу! Как живо встал бы передо мной образ ребенка, подростка, как много это прибавило бы к тому, что я знаю о моем друге! Но я не обвиняю Луизу: она чтит его память, она не хочет, чтобы чужие глаза проникли в ту область, которая священна для нее. И она не очень доверяет мне!