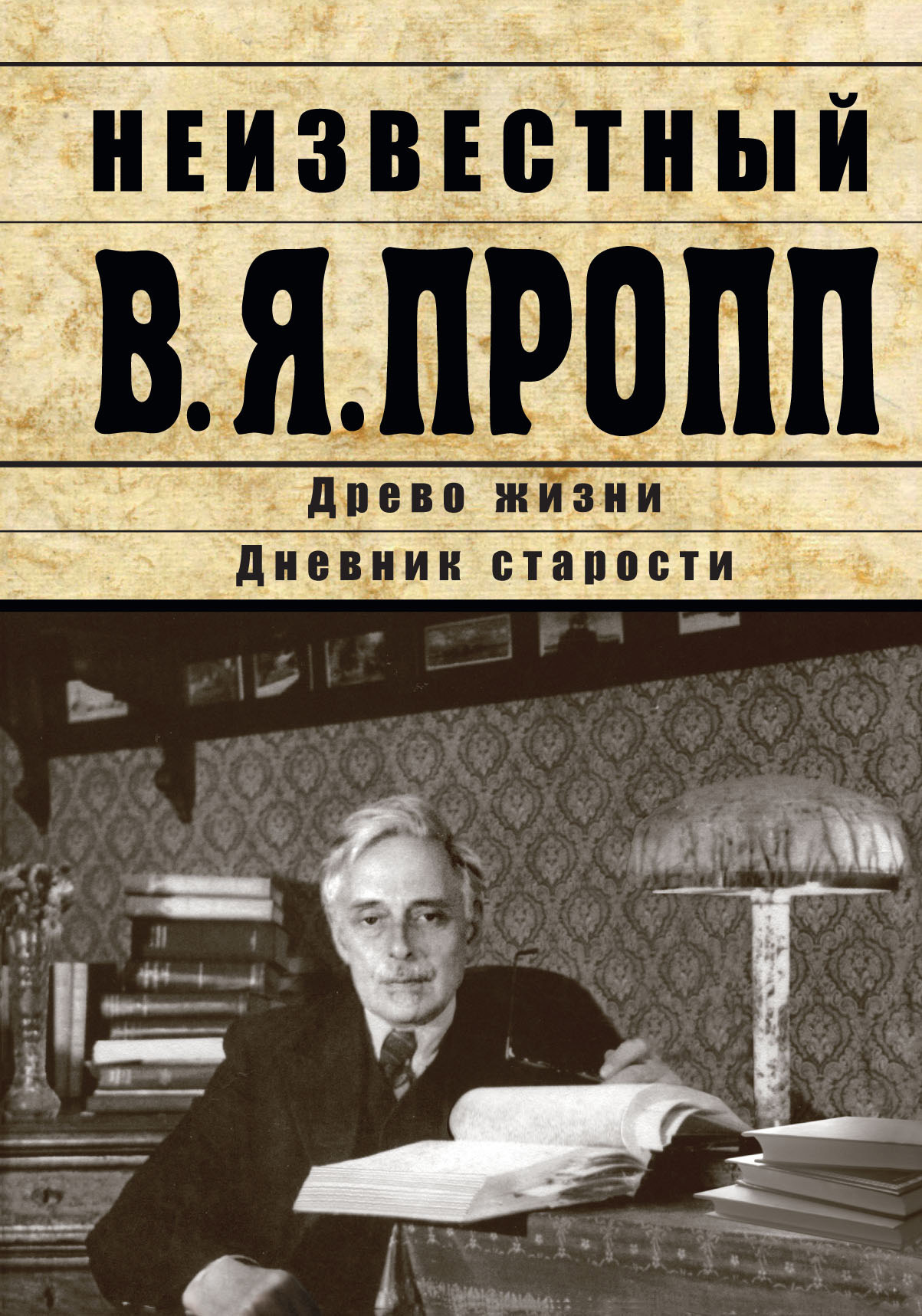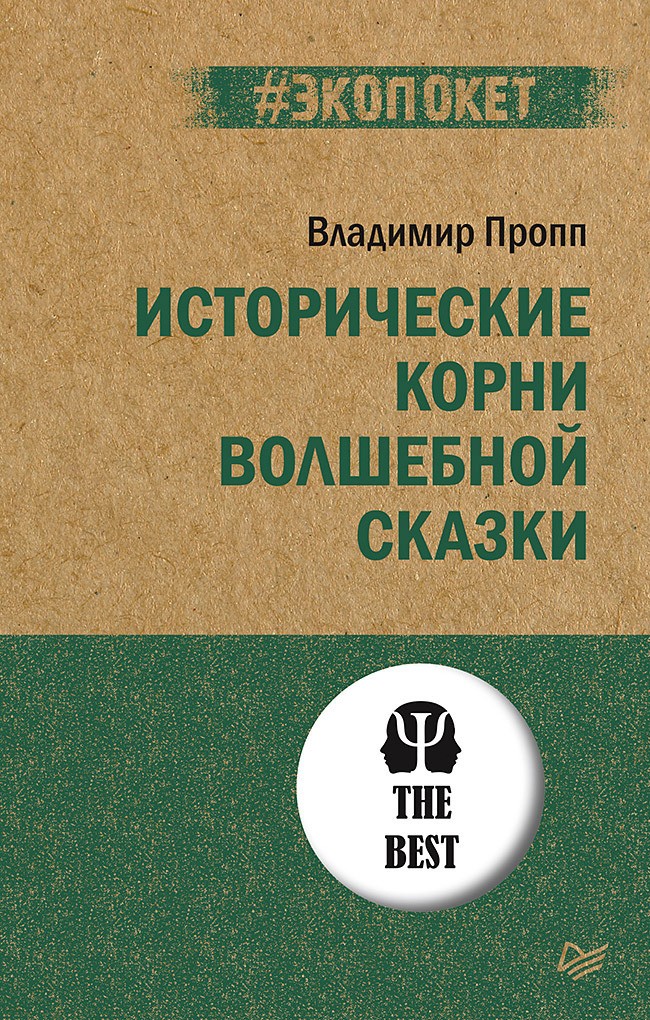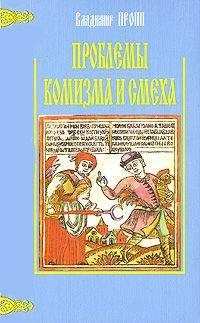но немец, что тоже подозрительно…
И пока никто не знает, что всего через восемь лет обе эти книги помогут Владимиру Яковлевичу сделать первый шаг к мировой славе.
А до получения новой квартиры осталось еще больше десяти лет, и пока хозяин отдельного полуподвала встречает на пороге свою новую аспирантку.
Когда я пришла впервые на улицу Марата, оказалось, что страшного ничего нет.
Владимир Яковлевич честно признался, что партизанского фольклора, которым я занималась, он не знает, но с удовольствием узнает из моей работы, обещал методическую и теоретическую помощь.
Наше общение продолжалось недолго: в декабре 1950 года, не успев завершить диссертацию, я родила дочь Машу. Для аспирантки 49-50-х годов этот радостный факт был чреват большими неприятностями.
Наш ректор А. А. Вознесенский придумал целую систему карательных мер на случай появления у аспирантки ребенка до диссертации: предлагалось даже снижать на какой-то процент зарплату руководителя, не говоря уже о выговорах, на которые Вознесенский был очень щедр. Все это сильно портило отношения руководителей с демографически несдержанными аспирантками, а их держало в таком страхе, что они нелегально и за большие деньги делали себе зверскую операцию – вливание йода (аборты были тогда строжайше запрещены, а вливание гарантировало бездетность, многим, как оказалось, на всю жизнь).
Некоторые руководители, принимая девушек в аспирантуру, требовали от них «обета безбрачия» или, по крайней мере, бездетности. Я, не успев выяснить, как мой научный руководитель будет реагировать на подобную ситуацию, известила Владимира Яковлевича покаянной открыткой из роддома. В ответ я получила очень сердечные поздравления с этим радостным для меня событием:
«11 декабря 1950 года.
Дорогая Оля!
От всей души поздравляю Вас с появлением у Вас маленькой Машеньки, а маленькую Машеньку поздравляю с появлением на этот свет, где в общем живется не так уж плохо. Очень, очень за Вас рад и желаю Вам, чтобы Вы в своих детях были счастливы. Пишу “детях”, т. к. теперь надо думать об Иванушке. Павел Николаевич съел бы Вас живьем, а я нет, я даже рад, а диссертация подождет.
За нее я не беспокоюсь, а беспокоюсь за Вас, пока Вы находитесь в учреждении, именуемым больницей.
Надеюсь, что Вы выйдете скоро, и что у Вас все хорошо.
Умница! Хвалю.
Ваш В. Пропп».
И вот осенью 51 года я везу Владимиру Яковлевичу наспех дописанную диссертацию и Машу, важно восседающую в голубой коляске. Владимир Яковлевич и его жена Елизавета Яковлевна встретили меня так тепло и сердечно, что все мои тревоги прошли. Владимир Яковлевич сфотографировал этот наш визит. Оказалось, что он увлекается фотографированием и особенно любит снимать детей. В дальнейшем Владимир Яковлевич часто приглашал меня с дочерью к себе, а когда родилась вторая, пришел с Елизаветой Яковлевной к нам в гости и подарил новорожденной красивый розовый конверт.
Детские фотопортреты Владимира Яковлевича отличались не только профессионально высоким уровнем работы, но и глубиной психологизма.
Наши отношения становились все более дружескими, особенно после того, как я защитила диссертацию в феврале 1952 года. Теперь мы были коллегами, и Владимир Яковлевич стал называть меня в университете только по имени и отчеству. Кликать своих учеников до старости по имени и на «ты» – этого он не мог себе и представить.
Чем больше я узнавала Владимира Яковлевича, тем более утверждалась в странной мысли, что Владимир Яковлевич принадлежит к какой-то ушедшей цивилизации, уже покинувшей землю. Даже внешность его – большие, чуть выпуклые карие глаза под тяжелыми веками, усы и бородка «эспаньолка», которых никто уже не носил тогда, напоминали портреты людей Возрождения, а может быть, даже Средневековья. Обхождение с женщинами шло явно от рыцарских времен.
Однажды я увидела в пустом коридоре филфака, как Владимир Яковлевич приветствовал Ольгу Михайловну Фрейденберг. Эта гениальная женщина, явно недооцененная современниками, пользовалась особым уважением Владимира Яковлевича. И вот, встретившись с нею в пустом коридоре, он вдруг согнулся в почтительном поклоне, слегка помахав перед собой правой рукой, в которой я вдруг «увидела» шляпу с тяжелым до пола пером.
Сейчас мы гораздо больше знаем о людях этой ушедшей цивилизации: Вернадский, Вавилов, Чаянов, Чижевский, Флоренский – вот ее представители. Тогда мы не знали о них ничего. Владимир Яковлевич был один такой среди тех, кто работал в те годы. Никто из них не печатал всех своих трудов в невыгодном безгонорарном издательстве ЛГУ. Только вторые издания приносили доход, первые же были сущим разорением: одна перепечатка текста чего стоила! При этом в доме не было лишних денег: Владимир Яковлевич помогал своей старшей дочери и внучке, содержал семью своей первой жены, когда в 1937 году они лишились кормильца; сестра Елизаветы Яковлевны, инвалид, жила до самой смерти в их доме, помогал он и своим двум сестрам.
Когда Владимир Яковлевич умер, деньги на памятник собрали среди учеников и друзей Владимира Яковлевича. Прекрасную его фольклорную библиотеку Елизавета Яковлевна продала за бесценок (три тысячи, больше дать не смогли!) в Петрозаводск, а деньги разделила между родственниками Владимира Яковлевича, послав и двум старушкам-пенсионеркам, сестрам Владимира Яковлевича, которые бедствовали где-то в провинции.
Жители флигелька на Марата быстро узнали, что профессор из полуподвала никогда не отказывается дать в долг «до получки», и пьяницы-соседи начали этим беззастенчиво пользоваться, их жены еще и скандалы устраивали: «Зачем дал моему на опохмелку!»
Елизавета Яковлевна видела в этом поощрение пьянства и тоже не одобряла, но Владимир Яковлевич искренне недоумевал: «Но ведь если он просит, значит, ему действительно нужно!» Не скупился он и на щедрые подарки ученикам в связи с разными событиями и на всякие взносы, которые вечно собирали с нас на кого-нибудь или что-нибудь.
На личные расходы оставалось явно мало: я помню Владимира Яковлевича всю жизнь в одном костюме и стареньком синем демисезонном пальто, которое он носил зимой и летом. На плече оно разорвалось и было зашито через край. Одно домашнее платье было и у Елизаветы Яковлевны, в последние годы уже порядком заштопанное, а на волосах дома – сетка, чтобы прическа была всегда в порядке. Проблема одежды для себя никогда, видимо, их не волновала. Не было и никаких излишеств в быту. Гостей встречали хлебосольно, но меню было обычным, как у нас всех, профессорской роскоши никогда не бывало…
Удивляло нас, что Владимир Яковлевич никогда не позволял себе ни слова сказать про тех, кого он не любил и кто ему причинял много неприятностей. Даже в самых грубых разносных статьях про него он пытался найти какой-то смысл.
Мы тогда жаловались ему на бесцеремонность и грубость ректора А. А. Вознесенского.