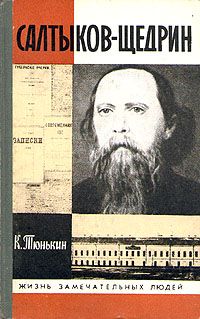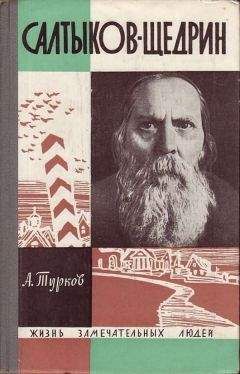Так летом 1870 года рождается глава — «Продолжение покаяния», публикация которой в девятой книжке «Отечественных записок» сопровождалась таким примечанием: «по «Краткой описи градоначальникам» местами встречается путаница, которая ввела в заблуждение и издателя «Летописи». Так, например, последний очерк наш («Отеч. зап.», № 4) был закопчен появлением Перехват-Залихватского, между тем, по более точным исследованиям, оказывается, что за Грустиловым следовал не Перехват-Залихватский, а Угрюм-Бурчеев, «бывый прохвост», который, по «краткой описи», совсем пропущен. Что касается до Перехват-Залихватского, то существование его хотя и не подлежит спору, но он явился позднее, то есть в то время, когда история Глупова уже кончилась, и летописец даже не описывает его действий, а только дает почувствовать, что произошло нечто более, нежели то обыкновенное, которое совершалось Бородавкиными, Негодяевыми и пр. Все эти ошибки ныне исправляются. Издатель».
«Он был ужасен» — так начинается последняя глава «Истории одного города». Он — это неожиданно явившийся новый начальник города Глупова Угрюм-Бурчеев. Если Грустилов, впавший в мистическое сектаторство и хлыстовскую ересь, ассоциировался непосредственно (хотя общее значение этого образа неизмеримо шире) с Александром I последних лет его жизни, то Угрюм-Бурчеев, конечно, сразу же вызывал в сознании читателей облик и дела имевшего огромную власть политического деятеля александровского царствования — военного министра, а потом председателя Департамента военных дел Государственного совета Российской империи Алексея Андреевича Аракчеева. Продуктом военно-бюрократической фантазии Аракчеева явились так называемые «военные поселения» государственных крестьян. Крестьяне эти оставались крестьянами, ибо должны были трудиться на своем полевом наделе, но становились и солдатами, подчиненными, вместе со своими семьями, строжайшей военной дисциплине, страшному, до мелочей регламентированному не только трудовому, но и бытовому режиму. Сама жизнь преподносила в этом случае нечто до такой степени фантастически-безумное, что Салтыкову оставалось только вставить эту безумную фантасмагорию в рамку «Истории одного города» и тем самым завершить эту историю. Разумеется, финал этой фантасмагории и вместе с тем финал истории Глупова вымышлен и несет в себе смысл, требующий самого внимательного прочтения.
Итак, он был ужасен.
Уж на что отвратительны Василиск Бородавкин и Дементий Брудастый, но и у них были какие-то, пусть извращенные, дикие проявления человеческих свойств — воинственная предприимчивость или безумная ярость.
В числе же элементов, составлявших природу Угрюм-Бурчеева, отсутствовали всякие следы страстности, замененной «непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма». Идеалом его была прямая линия, доведенная до наготы. «Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще», никаких естественных проявлений которой он не понимал; разума не признавал вовсе.
Угрюм-Бурчеев символизирует идею самовластия в ее, так сказать, до предела очищенном виде — очищенном от каких бы то ни было случайностей, извилин и красок, очищенном от всякой живой, движущейся, переливающейся человечности, — власть в ее стерильном, беспримесном виде. Портрет Угрюм-Бурчеева, сохранившийся в городском архиве, — это лицо такой власти.
«Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы... Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...
Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение».
Впечатление от внешности Угрюм-Бурчеева действительно тяжелое и мрачное. Сатирически-характернейшее и в этом смысле — ярчайшее воплощение самовластья как такового, это портрет властного ничтожества — серый, стертый, мертвый, как та солдатская шинель, которая нависла над ним вместо неба.
Угрюм-Бурчеев и в самом деле принял мрачное решение, ускорившее трагически-загадочный конец глуповской истории. «Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности и будущего устройства этой злосчастной муниципии».
Идеальный город представлялся Угрюм-Бурчееву в таком систематизированно-регламентированном виде. Располагался он, естественно, на совершенно ровном, плоском месте, где не должно быть ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, ничего, нарушающего идею прямизны и единообразия. Посредине этого города — «площадь, от которой радиусами разбегаются улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт <предместье>, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету». Ничто, находящееся или живущее за этой темной занавесью, для Угрюм-Бурчеева не существовало. Там была просто пустота.
Предполагалось, что каждый дом, или поселенная единица, имеет три окна и выкрашен в светло-серую краску; количество живущих в доме людей и животных также тщательно усчитано и раз навсегда определено. «Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в том случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».
Предусмотрены всякие манежи для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для совместного принятия пищи и т. д., но школ не полагается.