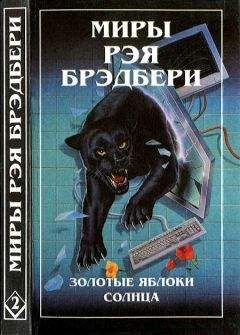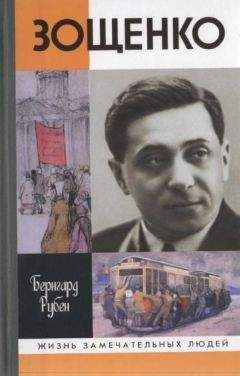Чаще, впрочем, в этих рассказах проводится другая задача — приближение зверя через перенесение в него человеческих эмоций; но и тут и там неминуемо сквозят через зверя обрывки человеческой жизни.
Рассказ Конст. Федина «Песьи души» как бы колеблется между этими двумя заданиями. Признаки «остранения» мира через зверя встречаются у него в начале рассказа: «Приходит женщина с ведром и мажет чем-то стену. Потом лепит на стене бумагу (бумаги валяется на дороге очень много, но женщина всегда приносит с собой). То, чем она мажет стену, очень хорошо пахнет, но на вкус неприятно» (стр. 83). Но тут же автор отказывается от этой задачи: «Чувствую, что начинаю говорить от собачьего имени. Между тем, мысли собачьи — человеку тайна. Только душа у собак ясная, и писать о ней можно» (стр. 83), — и далее очеловечивает «собачий роман». Любовь, голод, смерть любовницы, отчаяние и одичание любовника — здесь дана человеческая психология в «песьих душах» и сближен «собачий роман» с человеческим. Вместе с тем в рассказ (как и у Никитина) вторгаются деформированные, преломленные зверем обрывки нового быта — революции, голода.
Стиль К. Федина иногда отзывается манерностью: «Сердце бьется сильно, не удержать в руке (хирурги знают это), а в уголке каком-нибудь, может совсем рядом с клокотом страшным, покойные лежат клеточки» (стр. 82). (Изысканный синтаксис, не подходящий к сюжетной и стилистической задаче автора.)
Интересный рассказ В. Каверина, как и рассказ Никитина, отображает сюжетные искания «Серапионовых братьев» и, может быть, больше других отвечает гофмановскому вкусу названия кружка. Фантастический сюжет осложнен у него временной перестановкой глав, остроумно обнаженной вмешательством авторского «я». Авторское «я» играет двойную роль в рассказе — полудемоническую в сюжетной схеме («я» как действующее лицо), ироническую в развертывании ее («я» как автор). К концу вмешательство автора дано в виде иронического «разрушения иллюзии»: завязка не разрешается, а пародически обрывается.
При перевесе сюжетных заданий стиль автора подчинен им и обычно исполняет роль сюжетного задержания. Это отзывается в комическом расширении фразы путем введения «точных» эпитетов и описаний и нарочито шутливого штиля: «Профессор постоял с минуту, поглядел вслед убегавшему и, покачав головой, с непреложностью направился к месту своего назначения. Но беспутной судьбе было угодно во второй, а впоследствии и в третий раз нарушить его спокойствие» (стр. 97); исключительно задерживающую роль играет лекция профессора; иногда это отзывается искусственностью (реплика студента, стр. 96), а порою пародический стиль автора слишком молод и переходит в Studentensprache (стр. 97 — вступление профессора в университет, пародические эпитеты), — но все это выкупается остроумием композиции.
Нельзя не отметить, что В. Каверин стоит несколько особняком, что, в то время как его товарищи связаны с теми или иными русскими традициями, в нем многое — от немецкой романтической прозы Гофмана и Брентано.
Но при всем различии всех направлений у «братьев» есть общее: некоторое упрощение задач прозы, с тем чтобы увидеть ее, стремление «сделать вещь». Первый альманах «Серапионовых братьев» не дает еще ничего нового; это лишь отражение их общей работы; но работа делается, она нужна, и нужны книги «братьев», список которых, приложенный к альманаху, уже довольно плотен.
1922. МАРИЭТТА ШАГИНЯН Серапионовы братья
Никогда русский читатель не ждал так свежей беллетристики, как сейчас. Беллетристика укрепляет представление о скачущих предметах; она канонизирует быт. Пока ее нет — перемена душит нас; нам кажется, что мы не живем, а только терпим, что мы — страдательные фигуры истории. Но родилась она, и хаос становится космосом; новая форма быта укрепилась в образе; на фоне ее опять выступил человек, — он действует, с ним нечто происходит, он стал повелителем перемены, активным делателем истории.
Читатель узнает в нем себя, свое; видит осевшую наземь «перемену», и сознание его пронизывает счастливейшее чувство современности: значит, «не зря»! Хаос родил жизнь — и хаос оправдан.
В Петербурге возник целый коллектив рассказчиков. Он присвоил себе гофмановское название «Серапионовых братьев». Родословную его выводят из формальной школы молодых филологов, — и это, на мой взгляд, грубо ошибочно. «Серапионовы братья» возрождают как раз те явления, против которых выступила формальная школа: психологизм, реалистическую манеру письма, линейную композицию (не закругляют повествованье, а разворачивают его по линии), преобладание темы над фабулой, «содержания» над занятностью. Словом, Серапионовы братья, несмотря на формальную купель, в которой они были крещены, не начинают собой новой беллетристики, а возрождают исконную русскую классическую повесть.
Но «Серапионовы братья» все же кое-чем обязаны и формальной школе, — правда, очень немногим. Они ввели в рассказ принципы устной речи, сказыванье, как один из пособников наибольшей занятности; предполагается, что читатель — слушает. Это различно выразилось у каждого. Одни пользуются рефреном (см., например, очаровательный прием рефрена в «Диком» М. Слонимского), другие ведут рассказ, совершенно в него не вмешиваясь и давая логике действия разворачиваться с почти музыкальною строгостью («В пустыне» Л. Лунца), третьи, наоборот, все время вмешиваются в рассказ, давая от себя нечто вроде прибаутки:
«Банан — фрукт вкусный. Впрочем я банана не ел, и учитель Отчерчи тоже не ел, но по утрам любил мечтать — провести бы по карте полушарий земных одну параллельную черту, а одну перпендикулярную и в точку скрещивания поехать. Интересные события бы могли быть…»
(В. Иванов. «Глиняная шуба»)
В рассказе банан ни к чему; и приплетается он не к слову, а именно как прибаутка. Таких приемов можно наблюсти много, почти у каждого из Серапионовых братьев. С принципом «устности» связан у них также и лексикон. Книжных и «письменных» слов они старательно избегают, выискивают речевые слова и словца, иной раз совсем свежие; тяготеют к Ремизову, к сказке, к лубку.
На том влияние формальной школы и заканчивается. Прочтя подряд несколько рассказов Серапионовых братьев, вы не можете удержаться от удивления: как будто за короткие годы передышки, за годы, когда замолчал острейший прозаик Сологуб, — ликвидировано и стилистически, и тематически то течение, которое некогда называлось «декадентским». Не в смысле его ухода со сцены (оно уже давно ушло), а в смысле вырванности с корнем, не продолженности в будущее, не генетичности. Молодежь, возросшая в Петербурге, ни в стиле, ни в теме не отразила ни малейшего влияния, — например, Сологуба. Белый повлиял на нее тоже лишь косвенно, через эпигонов, и так незначительно, что и говорить об этом не стоит. Сам Ремизов, которому больше посчастливилось, отразился только в манере и в языке, но не в духе и не в задании. Корни же этой молодежи, как оно ни странно, уходят в «консервативную» русскую прозу, — к психологическим реалистам, к М. Горькому, Куприну, Бунину, Зайцеву, к московскому «Знанию», к «Земле», к петербургскому «Шиповнику»; таково ближайшее родство. Никогда новое не было более знакомым, чем это наше новое «сегодня». Никогда новое не было менее революционным. Почему это случилось? Не знаю. Хорошо это или плохо? Не знаю. Но это жизненно.