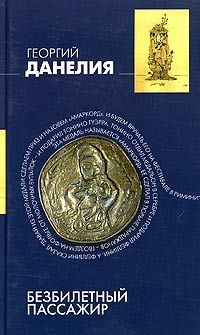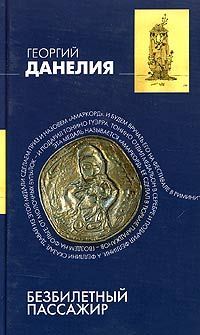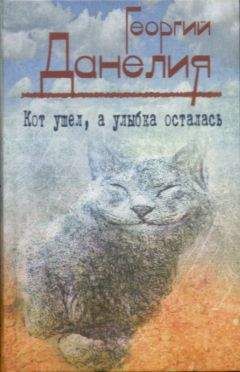Однажды я возвращался с гастролей из Ростова-на-Дону. Вагон «СВ», в котором я ехал, был «штабной», то есть в нем находился начальник поезда. Вернее, начальница. Она и обратилась ко мне с просьбой: «Защитите нашу девочку, нашу проводницу. Сейчас на остановке войдет один „мент“ – парень-милиционер. Он жуткий садюга, сволочь, принуждает ее к сожительству, шантажирует. Он едет один перегон, полчаса. Этого времени ему хватает на скотство. Через него уже многие наши проводницы прошли. Откажешь – статью пришьет, наркотик подкинет, сволочь. Помогите, отвлеките его. Жалко девчонку. Молоденькая еще совсем». – «Попытаюсь», – ответил я.
На следующей остановке действительно вошел молодой, довольно интересный парень в милицейской форме. Узнав меня, попросил автограф на денежной купюре. Подписал. Слово за слово, выясняется, что я любимый артист его матери, что сам он тоже ужасно любит кино, музыку, играет на бас-гитаре в клубном ансамбле. Обожает Высоцкого. И когда я сказал ему, что мы с Высоцким из одного двора, он совсем забыл о девочке-проводнице, все о Владимире Семеновиче твердил, выспрашивал. И вдруг, внезапно переменившись в лице: «А этого я ненавижу, сам бы убил суку! Что он все ноет и ноет?!» – «Кто?» – растерялся я. – «Ну, этот… „Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки…“ Окуджава, блин!» Мне стало страшно и жаль мальчика-милиционера. Что-то не так, что-то не строило в его душе, не отзывалось на доброту, вызывало агрессию. Оттого, видать, и насильничает проводниц в перегоне за полчаса. Я заговорил его, отвлек, спас девочку. И был потрясен. Оказывается, интонация, струна художника может не только объединять, но и выявлять людей.
Есть в Москве подъезд известный под названьем Черный ход.
В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот.
Он не требует, не просит, желтый глаз его горит.
Каждый сам ему выносит и «спасибо» говорит.
Оттого-то и не весел дом, в котором мы живем,
Надо б лампочку повесить, денег все не соберем… –
пел Окуджава в холодном декорационном зале нашей студии. По лестнице, через зал, в общагу, в свою каморку на третий этаж поднимались влюбленные, счастливые Евгений Урбанский и Дзидра Ритенбергс. Они были молоды и уже знамениты. Вся страна знала, любила его «Коммуниста» и ее «Мальву». В театр Станиславского пришли вместе с ними другие молодые артисты: Евгений Леонов, Юрий Гребенщиков, Майя Менглет, Леонид Сатановский, Ольга Бган. Мы, юные студийцы, гордились ими. И никто еще ничего не знал. Не знал, что Ольга Бган вскоре уйдет из жизни, а Евгений Урбанский погибнет на съемках фильма «Директор». Никто ничего не знал.
Александр Борисович Аронов и Лев Яковлевич Елагин сделали недюженное дело. Они выявили и привели в искусство целое поколение. По разному сложились судьбы. Но все мы, бывшие студийцы, объединены неким паролем, некой общей причастностью к нашей студии и времени ее рождения – времени хрущевской оттепели. «Надежды юношей питали!..»
Не так давно умерла Лиза Никищихина. Умерла внезапно. Было ей за пятьдесят. Замечательная, талантливая, уникальная актриса. На панихиду в театр Станиславского пришли многие студийцы. Уходя, я спустился в подвальный этаж, где когда-то собирались мы на занятия. Но не нашел былого. Зрительский туалет, расширенный евроремонтом, поглотил репетиционный зал студии. Тоже веяние времени. Как там у Гены Шпаликова:
По несчастью или счастью, истина проста –
Никогда не возвращайтесь в старые места.
Даже если пепелище выглядит вполне,
Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне…
Мое отношение к учительству, мягко говоря, всегда было неоднозначно. Мама – директор школы. Бабушка – преподаватель русского языка, русистка. С детства я в курсе педагогических интриг, всех этих педсоветов, совещаний РОНО и ГОРОНО – грызня. Но был один директор, учитель, классный руководитель в моей жизни – действительно классный. Алексей Дмитриевич Фролов. Я учился у него всего два года, 9-10 классы, в 1140 школе. Но я его выпускник. Он выпустил меня на свободу из средней школы. Он сам был свободным человеком. Отец и дядя его, крестьяне Костромской губернии, купили на ярмарке лотерейный билет и выиграли кругосветное путешествие. Взяли деньгами. Основали игрушечное производство. Разбогатели. Дали детям приличное образование. Алексей Дмитриевич закончил классическую гимназию, высшую школу. Стал педагогом. Директорствовал. Сначала в провинции. Потом в Москве. И его служебная квартира при школе, и его коммунальная комнатенка с видом на Большой театр были перенаселены изысканными балеринами и породистыми собачками из фарфорового бисквита – коллекция. Даже внешне Алексей Дмитриевич был, как говорится, человеком старых правил. Плотный, основательный, неторопливый, хлебосольный, доброжелательный, галантный, аккуратный, ироничный, он жил закоренелым холостяком в окружении преданных лепных псов средь танцующих статуэток, храня на сердце какую-то тайну. Дети не только любили его, но и уважали безмерно. Называли Папа Леша. Участковый милиционер именовался им «околоточный», сберкасса – «казначейством», вышестоящие инстанции – «присутствием». Строго распекая провинившегося, он никогда не переходил на тон, унижающий человеческое достоинство. Многое прощал. Не терпел пошлость. Прятался от нее в свою коллекцию. Было в Папе Леше что-то традиционно российское, неподвластное осовечиванию, однако без излишних вольностей, без фрондерства. Выпускники, покидавшие школу, не порывали с ним. Приходили и в гости, и за советом, и в долг занять, и выговориться. Он обыкновенно угощал чаем в серебряных подстаканниках, с вареньем, с колотым шоколадом, с червлеными почему-то десертными ложками вместо чайных. Давал в долг, но брал расписку. Однажды он мне поверил свою историю.
Женился рано по страстной любви чуть ли не в совершеннолетие. Родился сын. Рос, учился отличником, вступил в комсомол. Потом война, Великая Отечественная. Сын – комсорг школы. Отец – директор. Он сказал ему: «Я агитирую ребят в добровольцы и сам должен. Иду на фронт». И он отпустил сына. И сын погиб. Жена не простила ему, что не прикрыл, не отмазал, «убил родное дитя». Они расстались. Да он не полюбил никого больше. Так и остался.
Когда Папа Леша, прожив свою жизнь, оставил нас, на поминках я увидел старушку. Ту самую, которую он любил. Но у нее была другая семья и другие дети. А Алексей Дмитриевич никогда не был ей мужем.
И сына у них никогда не было. Он все выдумал. Любил безответно.
Итак, вернемся к основному сюжету. Папа Леша облегчил мою участь. Я не сдавал выпускные экзамены – он освободил меня по медицинскому освидетельствованию. Какие там физика, математика, когда в голове сплошной театр! Он понимал это. Я шел в районную медкомиссию веселый – косить по блату. Я возвращался оттуда придавленный зябкой мнительностью. У меня в самом деле нашли порок сердца.