Вернувшись из ссылки, Бродский попросил меня устроить его в геологическую экспедицию. Я поговорила со своим шефом, унылым мужчиной по имени Иван Егорович Богун, и он пожелал лично побеседовать с будущим сотрудником.
Я позвонила Иосифу: «Приходи завтра на смотрины. Приоденься, побрейся и прояви геологический энтузиазм».
Бродский явился, обросший трехдневной рыжей щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках. Нет, франтом он в те годы не был. Это на Западе фрак и смокинг стали ему жизненно необходимы.
Итак, Иосиф, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой «Прима».
Богун поморщился и помахал перед носом ладонью, разгоняя зловонный дым, но этого намека Иосиф не заметил. И тут произошел между ними такой примерно разговор:
– Ваша приятельница утверждает, что вы увлечены геологией, рветесь в поле и будете незаменимым работником – любезно сказал Иван Егорыч.
– Могу себе представить, – пробормотал Бродский и залился румянцем.
– В этом году у нас три экспедиции – Кольский, Магадан и Средняя Азия. Куда бы вы предпочли ехать?
– Не имеет значения, – хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок.
– Вот как! А что вам больше нравится – картирование или поиски и разведка полезных ископа...
– Абсолютно без разницы, – перебил Бродский, – лишь бы вон отсюда.
– Может, гамма-каротаж? – не сдавался начальник.
– Хоть гамма, хоть дельта, один черт! – парировал Бродский.
Богун нахмурился и поджал губы.
– И все же... Какая область геологической деятельности вас особенно привлекает?
– Геологической? – переспросил Иосиф и хихикнул.
Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся и заерзал в кресле.
– Позвольте спросить, – ледяным голосом отчеканил Иван Егорыч, – а что-нибудь вообще вас в жизни интересует?
– Разумеется, – оживился Иосиф, – очень даже! Больше всего на свете меня интересует метафизическая сущность поэзии...
У Богуна брови вместе с глазами полезли на лоб, но рассеянный Бродский не следил за мимикой собеседника.
– Понимаете, – продолжал он, – поэзия – это высшая форма существования языка. В идеале – это отрицание языком своей массы и законов тяготения, устремление языка вверх, к тому началу, в котором было Слово...
Наконец-то предмет беседы заинтересовал Иосифа Бродского. Он уселся поудобнее, заложил ногу за ногу, снова вытащил «Приму», чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся.
– Видите ли, – доверительно продолжал Иосиф, будто делился сокровенным, – все эти терцины, секстины, децины – всего лишь многократно повторяемая разработка последовавшего за начальным Словом эха. Они только кажутся искусственной формой организации поэтической речи... Я понятно объясняю?
Ошеломленный Иван Егорыч не поддержал беседы. Он втянул голову в плечи и затравленно смотрел на поэта. Иосиф тем временем разливался вечерним соловьем:
– Я начал всерьез заниматься латынью. Меня очень интересуют различные жанры латинской поэзии. Помните короткие поэмы Катулла? Он очень часто писал ямбом... – Иосиф на секунду задумался. – Я сейчас приведу вам пример...
– Минуточку, – пробормотал Иван Егорыч, привстал с кресла и поманил меня рукой: – Будьте добры, проводите вашего товарища до лифта.
Выходя вслед за Иосифом из кабинета, я оглянулась. Иван Егорыч глядел на меня безумным взором и энергично крутил пальцем у виска.
С начала 60-х и до самого отъезда на Запад (минус ссылка в Норенской) Бродский бывал у нас раз, а то и два в неделю. По вечерам у нас часто собирался народ, но Иосиф забредал и один, среди дня, без предварительных звонков и церемоний.
Мы жили в двух шагах от Новой Голландии, одного из самых любимых им районов Питера. Его волновал и притягивал индустриальный пейзаж Адмиралтейского завода – остовы строящихся кораблей, ржавые конструкции, гигантские подъемные краны, напоминающие шеи динозавров. Побродив по Новой Голландии, он заходил к нам погреться, съесть тарелку супа, выпить рюмку водки или стакан чаю, в зависимости от времени суток, и, конечно, почитать стихи. Его не смущало, если нас с Витей не было дома, – он читал стихи маме и расспрашивал ее о «былом».
Иосиф , да и все друзья и приятели любили наш дом. Вот как написал о нем Евгений Рейн:
В роскошных сводах терракотовых,
Среди уютности сплошной
В апартаментах с переходами
Живет он, серый и большой.
О том, кто же этот «серый и большой», будет рассказано в следующей главе.
Насчет «роскошных» сводов Рейн преувеличил, но, действительно, по советским стандартам того времени у нас была просторная, необычной конфигурации квартира – с четырехметровыми потолками, овальными петербургскими окнами, балконом и арками. Потолок в гостиной (она же мамина комната) был глубокого цвета малины без сливок – дань авангардистской маминой юности. Этот цвет дал основание папиному другу, директору Публичной библиотеки Льву Львовичу Ракову, поздравить нас однажды с Новым Годом такими словами: «Поменьше красных потолков, побольше вкусных пирожков».
Дом был обставлен недосожженой в блокаду мебелью красного дерева, частично павловской, частично александровской. Взять ее с собой в Америку, конечно, не разрешили, и ее по дешевке купили Соловьев-Седой и Сергей Михалков. Михалков прибыл с молодой дамой, увешанной кулонами в виде миниатюрных яиц а la Фаберже. Он купил несколько предметов, в том числе два массивных, почти до потолка, застекленных книжных шкафа красного дерева. Все детство, играя в прятки, я вжималась между ними в стену и становилась невидимкой. В одном из шкафов дремали русские и европейские классики, энциклопедии, многотомные словари, а в другом хранилась уникальная коллекция русской поэзии, от Кантемира до наших дней, в том числе и множество первоизданий поэтов Серебряного века с автографами.
Взять с собой разрешили только книжки, изданные после 1961 года. Итак, наши книжные шкафы живут в доме знаменитого советского поэта. Через несколько лет после нашего отъезда подруга прислала мне вырезку из какой-то московской газеты – интервью с Михалковым. Журналист, пораженный убранством его квартиры, говорит что-то вроде: «Сергей Владимирович, какая благородная, старинная у вас мебель, сразу видно, что была в вашей семье не одно поколение». «Да нет, – отвечает честный Михалков, – какие-то евреи уезжали в Израиль и распродавали свою мебель».
Я описываю нашу квартиру не из тщеславия, а из опасения, что один из близких друзей юности, христианскую душу которого разъест на старости лет серная кислота, напишет мемуар под названием «Г. Г. и пр.» или «Ж. Ж. и бр-рр», в котором оснастит наш дом фресками Джотто, коллекцией скифского золота, перламутровыми клавесинами и двумя-тремя подлинниками Эль Греко.
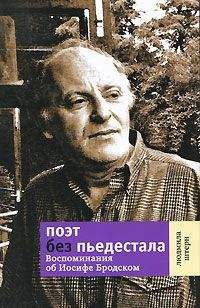




![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)