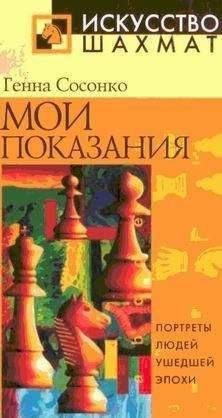Так вот о сне: я спал хорошо до московского турнира 36-го года. Но тогда такая страшная жара стояла, да еще шум постоянный на улице, что я потерял сон. Но был молодой и с бессонницей играл хорошо, заставлял себя играть. Потом как-то восстановился, но полного порядка так и не было.
Без всякого сомнения, машина будет играть сильнее человека, и бояться здесь нечего, шахматы станут еще популярнее. Бегают же люди на стадионах, хотя и велосипед, и тем более машина намного быстрее. Нет, здесь бояться не надо, но дело это непростое. Знаете, что я вчера на лекции понял ? Составить программу для управления экономикой легче, чем для шахмат, потому что игра двусторонняя, антагонистическая — игроки мешают друг другу, это же черт знает что такое, а в экономике этого нет, там всё проще.
Нет, Сталина не видел, с Поскребышевым, помощником его, по телефону разговаривал, а Сталина не видел. Но у меня есть телеграмма. Получил я ее в январе 1939 года, после того как послал Молотову письмо насчет моего матча с Алехиным. Телеграмма такая: «Если решите вызвать шахматиста Алехина на матч, желаем Вам полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить. Молотов». Я всегда думал — Молотов писал, но как-то прочел это с кавказским акцентом и понял — сталинский стиль, особенно «остальное нетрудно обеспечить». Ну, и потом у меня в Центре висит распоряжение J950 года за сталинской подписью. Сталин ведь был не только негативной фигурой, его роль двойственна. Он укреплял государство, и, хотя люди жили бедно, большинство его поддерживало. Десятки миллионов жизней, вы говорите? Знаете, я в это не очень верю. Лагеря были, конечно, но многие из лагерей возвращситсь, очень многие, и друзья мои возвращались. Так что цифрам я не очень верю. Хотя Сталин очень ловко камуфлировал свои злодейства. Впервые я почувствовал, что это брехня, в 1952 году, когда объявили о процессе врачей — врачи-убийцы. Я тогда и не поверил.
Был на приеме у Вышинского. Еще тогда, до войны, я отстаивал идею, что шахматные турниры надо проводить, как музыкальные конкурсы, что шахматы не хуже скрипки. Я ему прямо сказал об этом, а Вышинский говорит: у нас денег нет. А я ему: а на конкурсы есть? Так он ничего и не ответил... Вышинский был, конечно, приспособленец, но человек способный. В каком смысле? Юрист хороший, талантливый, но беспринципный. А вот Крыленко — это другое дело: добрый, справедливый, принципиальный и шахматы любил безумно, но, конечно, партийная дисциплина и указания ЦК были для него законом.
Хрущева видел однажды на приеме, помню — идет, живот у него был огромный, фотографы кричат ему: «Фотографию, Никита Сергеевич!» А он говорит: «А где же?» Тут Брежнев, он рядом с ним шел, опустился на зешю, подставил колено, вот Хрущев на него и сел. Так и на фотографии они вместе. Брежнев мне в 1961 году орден вручал после матча-реванша с Толем. Говорил он очень тепло и вообще мне понравился, это он потом больной стал.
Сожалею ли о чем-нибудь, что сделал не так в жизни? Делал какие-то ошибки, но я их больше не повторял. Какие?.. Ну, так трудно сказать. Иногда я по мелочам принимал глупые решения, но это меня учило, а так вообще — нет, не жалею».
Он замолчал, комната была полна заходящим солнцем сентября 1994 года, и в соседней церкви часы уже били шесть. Было видно, что он устал.
Видите меня, Михаил Моисеевич? — спросил я.
Только контуры.
Вы так и не были у Федорова? Вот Василий Васильевич...
— Да что Василий Васильевич, у него зрение в три раза лучше, чем у меня.
В прошлый свой приезд грозился всё пойти к Федорову, да выжидал, полагая, что профессор должен сначала прочесть его статью в историческом журнале, написанную еще в 1954 году, из которой было ясно, что он уже и тогда был за демократию.
Да был я у Федорова. Так тот прямо сказал, что клетки стареют.
Что же получается, медицина бессильна?
— Да, вот именно. Он, правда, предложил операцию сделать, но я отказался.
Я снова посмотрел на него. Старческие руки, астигматический взгляд из-за толстых стекол очков, седые, аккуратно зачесанные волосы. Он говорил о людях, большинство из которых умерло, так, как будто его самого на девятом десятке не касаются понятия времени и возраста. Его лекция на экономическом факультете и пресс-конференция в Тилбурге, посвященная шахматам, были фактически одним и тем же — яростной, страстной попыткой утвердить свою правоту, часто резкую и нетерпимую, не считающуюся с мнением собеседника или оппонента. Очень часто он брал за основу факт, далеко не очевидный, а иногда даже весьма сомнительный, и делал из него выводы с железной последовательностью и неумолимой логикой. Помню на той лекции удивленные лица студентов, когда он сказал: «Как вы сами знаете, всю экономику Голландии определяют три концерна - Philips, Hoogovens, Unilever». Добившись вследствие своего огромного таланта и железной воли наивысших успехов в одной области, он под влиянием этого полагал, что может чувствовать себя на таком же уровне и в других, где был значительно менее компетентен. Поэтому его суждения часто выглядят наивными и банальными, а иногда даже нелепыми. Нет, впрочем, никакого сомнения в искренности и абсолютной вере в то, что он говорил. Очевидно, что в этом немалую роль сыграла и страна, в которой он прожил всю свою сознательную жизнь, страна, считавшая только одну идею правильной, а остальные — реакционными или ошибочными. Его оценки людей и событий совмещали в себе нередко глубокое проникновение в характер человека и догматическое упрямство в объяснении его мотивов и намерений. Надо отдать ему должное: он развивал свои теории и гипотезы, построенные на этих предпосылках, с исключительной ясностью и целеустремленностью.
«Мышление у Михаила Моисеевича, - сказал мне однажды Смыслов, — сугубо материалистическое, я бы даже сказал — машинное. Впрочем, всё суета сует и всяческая суета, суета и томление духа, а вот у Михаила Моисеевича и томления духа нет». Поэтому так неожиданно щемяще звучит фраза, едва ли не единственная из всего, написанного Ботвинником: «В последние годы я понял, что такое старость: когда друзья уходят, а новые не появляются, остается лишь помнить тех, кто ушел».
Раз приняв какое-то решение, он следовал ему твердо, не сворачивая в сторону. Я думаю, что это качество - вера в себя, в правильность избранного плана, собственной идеи — крайне важно для шахматиста высокого уровня. Уверенность эта каким-то образом передается и шахматным фигурам. Все чемпионы мира, которых я видел вблизи, обладали в той или иной степени этим качеством. Просчитав варианты и сыграв g2-g4, следует верить только в лобовую атаку, а не сокрушаться по поводу того, что поле f4 сдается навсегда и что будет, если туда придет черный конь. Сомнения, накапливаемые с опытом, увы, порождают неуверенность и ничего хорошего не приносят.