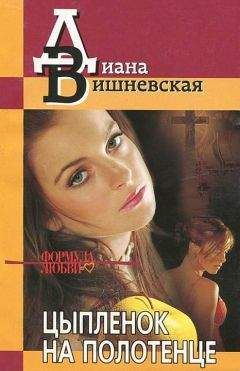Так я с 6 утра до 12 ночи и просидела в пальто на деревянной скамейке в коридоре. Ходят мимо меня целый день врачи, диву даются:
— Что, все сидишь? А я свое тяну:
— И буду сидеть, и не уйду, у меня первые роды, я боюсь…
А няньки мне:
— Да чего боишься-то? Не ты первая, не ты последняя. Иди домой, ночь уже!
— Не пойду. А если что со мной случится — вы отвечать будете. У меня первые роды.
В общем, поняли они, что делать тут нечего, и отвели меня прямо в родильную палату, где рожают уже. На резервную кровать не положили — невелика птица. Положили на стол, покрытый одной только простыней, на нем я и пролежала двое суток. Схватки начинаются — и пропадают: сил мне не хватает, худая я, изможденная. А вокруг меня — крики, стоны; какие там обезболивания, о таком от веку не слышали и не знали; не ори — и все тут. Смотрю — эта, рядом, рожает, ребенок идет, а мне страшно, я с головой закрываюсь простыней, чтобы не видеть. А другая родить не может, сил нет, смотрю — несут щипцы металлические, ребенка вытаскивать. Господи, помоги!
Участились у меня схватки, стали сильнее. Губы закусываю: не буду кричать, ни за что не буду кричать! Нянька там была одна добрая, все ко мне подходила:
— Ой ты родная моя, сама-то ребенок, куды тебе рожать! Что ж ты это мучиисси как долго! Ну, дай я тебя поглажу…
— Погладь, тетя Таня, ой, не могу больше!..
— Да ты кричи, кричи, легче будет! Ори громче…
Нет, так и не крикнула ни разу.
Родила я сына. Только успела лоб себе перекрестить — инстинктивно, в первый раз в жизни, — и больше ничего не помню. Начался у меня родовой припадок эклампсии (еще бы — восемнадцать часов в коридоре просидела да двое суток — на деревянном столе, глядя на рожавших). Такой приступ, если захватывает он женщину во время родов, часто убивает и мать, и ребенка. Начинаются страшные судороги, все тело перекручивает так, что можно откусить себе язык, остаться на всю жизнь с перекошенным лицом или со скосившимися глазами — я таких видела. Да, видно, крестное знамение меня охранило — внешне не осталось никаких следов.
Тогда-то я впервые подумала о Боге.
Мальчика назвали Ильей — в память об отце Марка. Принесли мне сына кормить — он здоровущий, сильный, как взял грудь, так соски у меня и полопались. Грудница началась — нарывы на обеих грудях, высокая температура. А через девять дней выписали меня из больницы. Пришла домой — помочь некому, кто будет ходить за мной и за ребенком? Марк — мужчина, что с него спросишь? А тут и пеленки стирать надо, и сушить тут же, в комнате, и мне что-то дать поесть — я ведь ребенка кормлю.
Лежу уже месяц, встать не могу — температура 40. Ребенок кричит — есть просит, а кроме груди, что ему дать? Подношу его к груди — и кричу, что есть силы, чтобы заглушить дикую боль. И так через каждые три часа. Раны на сосках не успевают затянуться — он их снова разрывает.
В эти дни вдруг появился мой отец — узнал, что я родила, пришел навестить (пьяный, конечно!) с очередной своей женой. Посидел несколько часов — видел прекрасно, в каком я отчаянном положении, — и ушел. Эта чужая мне женщина, жена его, хотела остаться со мной, помочь, но он не позволил. А это спасло бы мне сына. Я уж и не возмущалась даже, у меня было одно-единственное желание — закрыть глаза и умереть, чтобы не слышать криков моего несчастного мальчика. Чтобы не было больше этой проклятой жизни. Почему я не умерла тогда — до сих пор не понимаю.
Кончилось тем, что ребенок получил отравление. Диспепсия, антибиотиков тогда не было, спасти не смогли. Он умер двух с половиной месяцев. Мы с Марком сколотили из досок гробик, обтянули белой материей, положили сына. Наняли машину, поехали на кладбище — помню, весна в том году была поздняя, шел снег, земля еще не оттаяла — трудно было копать могилку.
А через две недели театр уезжал на гастроли, и меня, полуживую, Марк увез с собой. А что было делать? Дома-то еще хуже, ухаживать за мной некому, а ему работать надо.
Чуть оправилась — опять работаю, как ломовая лошадь. Сейчас, когда пишу, не могу и представить себе, как же я все это вынесла? И было-то мне всего 19 лет.
Вернулась с гастролей в Ленинград — в комнату, где уже не кричал мой сын. Кругом разбросаны его рубашонки, чепчики, пеленки… Так сжалось сердце — дышать не могу. А был как раз сороковой день его смерти, и у нас, право славных, панихиду в этот день полагается служить. Конечно, мне об этом никто не говорил, и сама я не знала, но ноет сердце — места себе не нахожу (видно, ангельская душа его меня звала). Зову Марка на кладбище, а он, видя, в каком я состоянии, как я маюсь, не хотел, чтобы я туда ехала. Поссорились мы с ним, и поехала я одна за город. Лето уже, тепло.
Народу на кладбище видимо-невидимо! Оказывается, большой церковный праздник — Троица. Я как вошла за ограду, так слезы у меня градом и посыпались. И к маленькому жалость разрывает, и к самой себе, что вот одна, без мужа, иду к сыну на могилку. Иду, задыхаюсь от слез, света белого не вижу… А кругом кто пляшет, кто поет — пьют, закусывают. Ну, праздник!
Я же могилку найти не могу, потому что вокруг все изменилось. Когда хоронили мы его, земля была голая, а теперь всё в цвету. И чем дольше не могу я ее найти, тем больше находит на меня отчаянье, я в голос уже плачу. Хожу одна среди чужих могил и вою. Парни какие-то зовут:
— Девушка, чего плачешь? Иди к нам — выпьем, веселее будет!
Насилу отбилась от них. Наконец нашла могилу. По соседней — весной еще запомнила фамилию того, кто рядом похоронен. Как увидела маленький холмик без памятника, без креста — повалилась на землю и долго лежала так и плакала.
Не знаю уж, сколько времени прошло. Вдруг кто-то зовет меня:
— Никак Галя?
Смотрю — тетя Таня стоит, та нянюшка, что все меня жалела в больнице, что я так долго родить не могла. Должно быть, кто-то был у нее тут похоронен.
— Ой, милая, сердешная ты моя! Видать, робеночек-то твой помер?
— Помер, тетя Таня, помер…
— Да посмотри, на кого же ты похожа, худая-то какая, сама-то не больна ли ты?
— Нет, не больная, тетя Таня, а только жить так тошно!
Села она рядом, гладит меня по голове, по плечам:
— Ничего, милая, не убивайся, не горюй. Все во власти Божией… Бог дал, Бог взял…
Однажды пришла ко мне незнакомая женщина, сказала, что она жена моего отца, у нее от него дочь, что отец мой арестован и осужден по 58-й — политической — статье на 10 лет. На мой вопрос — за что, она ответила, что он в пьяном виде рассказывал в какой-то компании анекдоты про Сталина. На него донесли, и вот теперь ему сидеть 10 лет.
Мне было его не жаль. Возможно, это было жестоко, но после того, как он бросил меня в блокаду, после того, как, увидев меня умирающей с новорожденным ребенком, пальцем не шевельнул, чтобы меня спасти, — я вычеркнула его из своей жизни раз и навсегда.