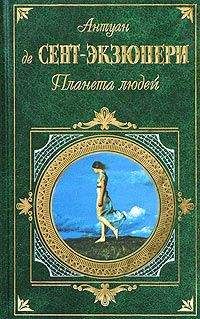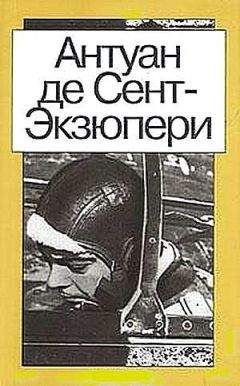в двух шагах от меня проходила невидимая линия фронта.
Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне
Приятель только что рассказал: вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему:
– Сойти с тротуара!
А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. И приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую.
Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит:
– Вы что, оглохли?
Восхитительно, не правда ли?
Ведь они хозяйничают в городе, эти анархисты. Они стоят на перекрестках группами по пять-шесть человек, охраняют отели или носятся на сумасшедшей скорости по улицам в реквизированных «испаносюизах».
В первое же утро военного мятежа они, вооруженные одними ножами, взяли верх над артиллеристами, которых поддерживали пулеметчики. Они отбили пушки. Одержав победу, они захватили оружие и боеприпасы в казармах и, как и следовало ожидать, превратили город в крепость. В их руках вода, газ, электричество, транспорт. Прогуливаясь утром по городу, я вижу, как они укрепляют свои баррикады. Тут и простенькие стенки из булыжника, и настоящие крепостные валы. Заглядываю за стену. Они там. Они разорили соседний дом и готовятся к гражданской войне, развалясь в красных учрежденческих креслах… А у тех, что охраняют мой отель, тоже дел по горло. Они носятся вверх и вниз по лестницам. Спрашиваю:
– Что происходит?
– Рекогносцировка.
– Зачем?
– Ставим на крыше пулемет.
– Зачем же?
Пожимают плечами.
Утром по городу прошел слух: говорят, правительство попытается разоружить анархистов.
А я думаю, что оно откажется от этого намерения.
Вчера я сделал несколько снимков нашего гарнизона – в каждом отеле есть свой гарнизон – и теперь разыскиваю здоровенного чернявого парня, чтобы вручить ему его изображение.
– Где он? Я хочу отдать ему фотографию.
Смотрят на меня, почесывают в затылке, затем с огорчением признаются:
– Пришлось его расстрелять. Он донес на одного, что тот фашист. Ну, раз фашист, мы его к стенке. А оказалось, это никакой не фашист, а просто его соперник.
Им не откажешь в чувстве справедливости.
В час ночи, на Рамбла, слышу:
– Стой!
В темноте возникают карабины.
– Дальше нельзя.
– Почему?
Разглядывают под фонарем мои документы, возвращают их:
– Можете пройти, но берегитесь: тут, наверно, будут стрелять.
– Что происходит?
Не отвечают.
По улице медленно тянется колонна орудий.
– Куда это?
– На станцию, отправляются на фронт. Хотелось бы посмотреть на эту отправку.
Пытаюсь подольститься к анархистам.
– До станции далеко, а тут еще дождь… Может, вы дадите машину?…
Один из них с готовностью исчезает. Он возвращается в реквизированном «делаже».
– Мы вас подвезем.
И я качу к вокзалу под защитой трех карабинов.
Забавная порода эти анархисты. Я их еще не раскусил. Завтра заставлю их разговориться и повидаю их великого трибуна Гарсиа Оливера.
Гражданская война – вовсе не война: это болезнь…
Итак, меня провожают анархисты. Вот и станция, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перронов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных путей. Проходим мимо вереницы заброшенных черных вагонов, на них под брезентами цвета сажи топорщатся жесткие конструкции. Я поражен зрелищем железного царства – сюда словно не ступала нога человека. Железное царство мертво. Корабль кажется живым, пока человек своей кистью и краской поддерживает его искусственный цвет. Но стоит покинуть корабль, завод, железную дорогу хоть на две недели, и они угасают, обнажая лицо смерти. Камни собора шесть тысячелетий спустя еще излучают тепло человеческого присутствия, а тут немного ржавчины, дождливая ночь – и от станции остается один скелет.
Вот эти люди. Они грузят на платформы свои пушки и пулеметы. С глухим надсадным придыханием они борются против этих чудовищных насекомых без плоти, против нагромождений панцирей и позвонков.
Поражает безмолвие. Ни песни, ни выкрика. Только время от времени проскрежещет упавший лафет. Но человеческих голосов не слышно.
У них нет военной формы. Они будут умирать в своей рабочей одежде. В черных, пропитанных грязью спецовках. Они копошатся вокруг своих железных пожитков подобно обитателям ночлежки. И я ощущаю дурноту, как в Дакаре, лет десять назад, когда там свирепствовала желтая лихорадка.
Командир подразделения говорит со мной шепотом, он заключает: «И мы пойдем на Сарагосу…».
Откуда этот шепот? Здесь царит больничная атмосфера. Да-да, ощущение именно такое. Гражданская война – вовсе не война: это болезнь.
Эти люди не пойдут в атаку, опьяненные жаждой победы, – они глухо отбиваются от заразы. И в противоположном лагере наверняка происходит то же самое. Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с территории: тут нужно избавиться от болезни. Новая вера – это что-то вроде чумы. Она поражает изнутри. Она распространяется в незримом. И на улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачумленными, которых они не могут распознать.
Вот почему они отбывают в безмолвии со своими орудиями удушения. Ничего общего с полками в былых национальных войнах, что стояли на шахматной доске лугов и перемещались по воле стратегов. Они с грехом пополам объединились в этом хаотическом городе. И Барселона и Сарагоса представляют почти одинаковую смесь из коммунистов, анархистов, фашистов. Да и те, что объединяются, быть может, меньше похожи друг на друга, чем на своих противников. В гражданской войне враг сидит внутри человека, и воюют здесь чуть ли не против самих себя.
И поэтому, конечно, война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть – это инфекционный барак. Избавляются от бациллоносителей. Анархисты устраивают обыски и складывают зараженных на грузовики. А по другую сторону Франко произносит чудовищные слова: «Здесь больше нет коммунистов!» Будто отбор произвела медицинская комиссия, будто его произвел полковой врач…
А человек-то, считая, что он может быть полезен, предстал со своей верой, с вдохновением в глазах.
– К службе непригоден!
На городских свалках жгут трупы, обливая их известью или керосином. Никакого уважения к человеку. Проявления его духа и в том и в другом лагере пресекали как болезнь. Так стоит ли уважать телесную оболочку? И тело, некогда полное молодого задора, умевшее любить, и улыбаться, и жертвовать собой, – это тело даже не собираются хоронить.
И я думаю о нашем уважении к смерти. Думаю о белом санатории, где в кругу родных тихо угасает девушка, и они, как бесценное сокровище, подбирают ее последние улыбки, последние слова. Ведь, в самом деле – это так индивидуально, так неповторимо. Никогда больше не прозвучит ни именно этот взрыв смеха, ни эта интонация, никто не сумеет так нахмурить брови. Каждый человек – это чудо. И мертвых у нас вспоминают много лет.
Здесь же человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают внутренности на мостовую. Тебя хватают. Тебя расстреливают. Ты думал не так, как другие.
О, только это ночное отправление под дождем и под стать правде этой войны. Эти люди окружают