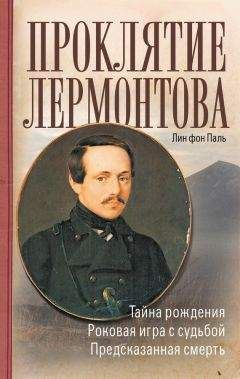Университетский благородный пансион был основан в 1779 году, и в нем первоначально также обучали детей из знатнейших семейств. В нем воспитывались Василий Жуковский, Александр Грибоедов, Владимир Одоевский, Дмитрий Фонвизин, Александр Тургенев и многие другие. Но время расцвета пансиона миновало. После Отечественной войны знатные семейства не слишком жаловали разрушенную Москву, детей они тоже предпочитали обучать в Петербурге. А в 1825 году пансион вызвал личное неудовольствие Николая I: многие его воспитанники оказались в рядах декабристов. Кто виноват? Система обучения: слишком много свободы. Николай Павлович посетил пансион в 1826 году, аккурат после казни пятерых декабристов, и тут же сменил все руководство – чтобы больше было порядка и меньше вольнодумства. Реформа в 1828 году, когда туда попал Миша Лермонтов, еще не обезобразила черты этого пансиона, но привилегий он лишился. Так в послевоенной Москве этот очаг знаний потерял популярность, и, созданный для воспитания высшей знати, пансион стал использоваться для обучения подрастающих дворян из семейств, не принадлежащих к высшему свету, московских и провинциальных, и последних было даже больше. Теперь провинциальная знать, мелкая для Петербурга, ездила «образовываться» в Москву. Родителями, думавшими о хорошем образовании детей, пансион ценился и за то, что был чем-то вроде приготовительного отделения Московского университета, то есть пансионеры без хлопот сразу переходили из одних учебных стен в другие – университетские. А те, что не желали учиться дальше, получали «стартовые» чины десятого – четырнадцатого классов и право производства в офицеры. В этом-то и была притягательность пансиона: молодой человек имел после него приличествующее положению в обществе образование и чин. Бабушка выбрала пансион, потому как чин Мишеньке будет обеспечен, а Лицей – далеко, да и как еще приживется там ее «захудалый» внук рядом с детьми вельмож, если он вообще туда попадет. Лучше не рисковать. Неудача 1827 года ясно показала: она была права, в Лицей Мишеньку точно бы не взяли.
Экзамены 1828 года Михаил Юрьевич сдал хорошо. И поступил вместе с Володей Мещериновым в старший четвертый класс. Всего классов было шесть. Большинство воспитанников жили на полном пансионе, то есть в пансионе спали, ели, проводили досуг, но Лермонтов был своекоштным студентом: в пансион его привозили утром и забирали после шести часов вечера. Поэтому в классе близких друзей у него не образовалось. Да он и не особенно пытался сблизиться с одноклассниками. Напротив, соблюдал дистанцию. Этому есть объяснение: даже мальчиком он не стремился первым свести знакомство, ему казалось, что так он навязывается, делает себя смешным, теряет собственное достоинство. Мальчики более простые и открытые этого не понимали, им казалось, что Лермонтов «важничает». Иногда, в ответ на шуточки, он вел себя соответственно.
Его соученик по пансиону Николай Сатин писал: «Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. „Пристанет так не отстанет“, – говорили о нем. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его к последней трагической дуэли». Интересный вывод? Как просто все объяснить, проецируя прошлое на будущее! Но доля правды в замечании Сатина есть: если Мишеля хотели сделать предметом насмешек, то натыкались на его острый язык и быструю реакцию. Так что крепкой дружбы в стенах пансиона он не свел ни с кем. За два года учебы у Лермонтова сложились относительно приятельские отношения только с теми, кто посещал литературный кружок.
Пансионеры изучали огромное количество предметов – как естественных, так и гуманитарных: математику, географию, естествознание, право, историю, логику, философию, политэкономию, языки классические и современные, мифологию, литературу, гражданскую архитектуру, военные науки, нравственные дисциплины, священную историю, эстетику, риторику, шесть видов искусств (музыку, рисование, живопись, танцы, фехтование, верховую езду), этикет и светские дисциплины… Лермонтов застал еще порядок, введенный прежним директором Прокоповичем-Антоновским, – серьезный упор в пансионе делался на изящную словесность и драматическое искусство. Пансионеры писали прозу и стихи, сами издавали альманахи, посещали театры, ставили пьесы, музицировали.
Лермонтов театр обожал. Эта любовь случилась еще в детстве и в пансионе только окрепла. Литературы как отдельного предмета в программе не было, но изучение всех языков начиная с русского и кончая классическими шло не по учебникам грамматики, а через чтение современных и древних авторов. Наставник Лермонтова Мерзляков требовал от своих питомцев досконального знания текстов на том языке, на котором они были написаны. Шиллера они читали по-немецки, Руссо – по-французски, Гомера – на древнегреческом, Овидия – на латыни. Для закрепления материала Мерзляков заставлял их делать переводы, а если текст был стихотворный – так и в стихах. Лермонтову приходилось видеться с Мерзляковым чаще, чем другим воспитанникам: бабушка наняла его в репетиторы, чтобы подтянуть Мишеля по литературе, и, кроме уроков в пансионе, Лермонтов брал у него частные уроки на дому. И в литературный кружок он попал, поскольку был подопечным Мерзлякова.
До пансиона Лермонтов не написал ни единой стихотворной строчки. Время, когда он бормотал во младенчестве «кошка – окошко», безвозвратно прошло. Даже влюбленность в барышню из ефремовской деревни годом ранее не выдавила из него ни единой рифмы. Но в пансионе он стал сочинять. Сначала – от безысходности, как все, кого заставляют это делать в целях воспитания. Очевидно, то, что выходило из-под его пера, ему страшно не нравилось. Он пробовал воспользоваться предложенными образцами – и видел в них изъяны, которые нужно исправить, довести тексты до совершенства. Так он стал много и серьезно читать, и не потому уже, что заставляли, а потому, что ему это нравилось. И… стал исправлять изъяны в чужих стихотворениях, переписывать их от своего лица. Не подражал образцам, нет, просто «улучшал» то, что написано другими. И получалось… что-то свое. «Образец» вроде бы и оставался и – изменялся, точно терял связь со своим творцом. Не то редактура чужих стихов, не то – пристальное изучение объекта, чтобы понять, как же это делается. И – необходимая корректировка погрешностей. Вскоре без стихов он и жить не мог, все воспринималось как поэзия и через поэзию. Он понял, что рассказать о себе, выплеснуть все, что творится в душе, может только через слово.
А там – творилось.
Не только образ прекрасной барышни из ефремовской деревни засел в этой душе и за время разлуки превратился в иллюзорный образ небесного создания, ничего общего не имеющий с конкретной девушкой, чтобы потом потерять небесное сияние и видоизмениться в образ обманщицы. Мимолетная встреча, созерцание луны на балконе барского дома превратились едва ли не в сцену признания в любви, которую он считал обоюдной и – с первого взгляда. И он совершенно не понимал, что это был всего лишь вечер на балконе и любование луной. И барышня получила бы ровно столько же удовольствия, если бы вместо Мишеля рядом с нею сидел кот. Усиленное чтение «программных авторов» только закрепило иллюзию: для него встреча стала роковой, наблюдение луны – свиданием, просьба поправить шаль – ласками, отъезд в Москву – трагической разлукой, а все выше описанное – романтической любовью до гроба. Он же совсем еще не знал жизни и был обычным мальчиком, которому очень хотелось, чтобы у него было «прошлое».