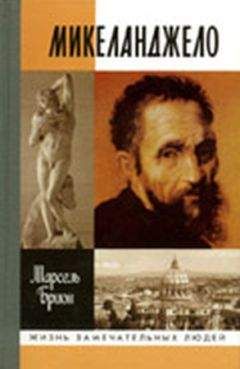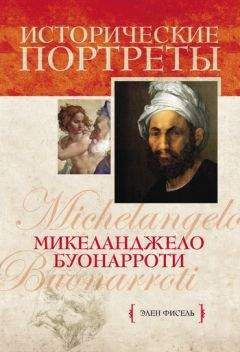Она не принадлежит ни одной стране, не относится ни к какому континенту. Никто не знает, находится ли она в Европе, в Африке или в Азии. Говорят, что скоро Новый Свет, названный так только что открывшим его неким авантюристом по имени не то Кристобаль Колон, не то Христофор Колумб, а может быть, и Кристофоро Коломбо, выплеснет на ее набережные краснокожих с султанами из перьев на головах, с обезьянами и попугаями. Пока же на ее площадях и мостах толпятся представители всех других рас, а на Пьяцетту высаживаются посольства, прибывающие из дальних стран. Посланцы Персии везут ковры, черную эмаль, миниатюры; китайцы выставляют свои загадочные картины, отливающие всеми цветами радуги изделия из фарфора, позванивают поделками из нефрита. Турки в громадных тюрбанах мешаются с усатыми славянами и веселыми неграми. И все потому, что Венеция — это громадный магазин, куда приезжает весь мир, чтобы продавать и покупать.
Ничто не могло быть более чуждо Микеланджело, чем этот, находящийся в вечном движении искрящийся город. Здесь царит нестабильность. Реальность превращается в мираж, и никогда не знаешь, ступаешь ли ты по твердой земле. Так отраженный от поверхности воды свет словно раскачивает стены с миниатюрными, легкими, как филигрань, колоннами и крыши, увенчанные дымовыми трубами с причудливыми насадками. Все это выглядело так, будто город ненавидел все темное, тяжелое, достигая совершенства в искусстве обработки самых невесомых, самых прозрачных материалов, стекла, кружев. Простой стеклянный стакан был здесь прозрачен, как хрусталь, и изящен, как струя воды, кружева походили на игру капризной пены, оставленной морем на песке. Человек, которому нужно ощущать камень под ногами и рядом с собою, не может не чувствовать себя чужим в этом феерическом городе, будто сошедшем со страниц старых арабских новелл, чтобы удивить Аладдина или Синдбада, но негостеприимном и почти враждебном по отношению к тосканскому скульптору, потомку далеких этрусков, и подобно им прочно укоренившемуся в земле, живущему землей и ощущающему ее всем своим существом.
В городе нет оборонительных стен: его защищает сама лагуна. Нет и могил, да и как похоронить человека в этом иле, пронизанном сваями, на которых держатся дома? Даже здешний собор всего лишь удивительная восточная фантазия, цоколь которого похож на морские гроты, а купола выглядят так, что вот-вот взлетят в небо. Если Флоренцию порой утесняет, как бы удушает вездесущий камень, то здесь воображение оказывается беспомощным из-за отсутствия устойчивых форм, благоприятствующих мечтам, прогулкам, беспечности, неожиданным встречам. Какая гениальная воля подвигла людей на то, чтобы основать империю на этих непрочных фундаментах, выстроить одно из самых жестких, самых суровых, самых строго разделенных обществ на стволах погруженных в грязь деревьев?
Спутников Микеланджело очаровывает эта без конца обновляющаяся венецианская феерия. Их занимает все: местные жители и иностранцы, экзотические фрукты, незнакомые предметы, чудовищные животные. Они без устали любуются каналами, бродят по извилистым улочкам, где за каждым поворотом их ждет какой-нибудь сюрприз. Живопись здесь отличается самой яркой колористичностью, искусство — самой высокой изысканностью.
Если бы его интересовало знакомство с венецианскими художниками, составлявшими славу Светлейшей Республики, Буонарроти мог бы встретиться с Джентиле Беллини и его братом Джованни, слава которых была в зените: один был летописцем празднеств и шествий, другой — создателем пленительных образов Мадонны. Ему мог бы представиться случай побеседовать с тем самым юношей из Кастельфранко, которого звали Джорджоне, или с его братом Тициано Вечеллио, двумя годами младше него. Он мог бы многое услышать о недавно умершем Антонелло да Мессина, привнесшем сюда манеру и технику живописцев Севера, но не услышал бы ничего о Микеланджело, которому хватило одного года, проведенного у Гирландайо, чтобы потрясающе правдиво скопировать картину Мартина Шонгауэра. Чима да Конельяно тридцать пять лет; никто другой не умеет так выразить нежность закатов солнца на лагуне, гармонию полей на твердой земле, далекую красоту Доломитов. Если бы Микеланджело захотел, он мог бы посетить в часовне церкви Св. Урсулы великого Витторе Карпаччо, изысканного новеллиста и замечательного колориста, заканчивающего в эти дни полотна, посвященные славе этой святой.
Ничего этого он не видит. А если бы что-то и заметил, то все равно это никак не отразилось бы в его произведениях, в характере или в литературных сочинениях. Личность Микеланджело была слишком противоположна образу Венеции, чтобы этот город мог оказать на него хоть какое-то влияние. Да и есть ли тут вообще скульпторы, которыми он мог бы восхититься?
Венеция никогда не была городом скульпторов. Здесь превосходная живопись, как в Голландии или Англии, странах, живущих морем. Для формирования скульпторов нужна сухая, жесткая среда, с четко определенными объемами, со сложившимися, устоявшимися пространствами, с солидными планами. Открытая игре облаков и воды, Венеция, наоборот, благоприятствует тем, кто творит в этом окружении — музыкантам и живописцам, вслушивающимся в эту внутреннюю музыку, которую возбуждает в них нечеткость форм, игра цвета. В городе на воде мало скульптур, как если бы все, что сделано из камня, было слишком тяжелым для этой зыбкой, неустойчивой земли. Здешние здания должны заставлять людей забывать о тяжести скульптур ради гармонии с атмосферой, создаваемой морем и небом. Картина венецианских художников лишь чуть менее прозрачна, чем стекло, ткань на ней лишь чуть плотнее кружева. Здесь нет фрески, одна лишь мужественная живопись, думает Микеланджело, потому что фреска это тоже борьба, в которой нужно побеждать быстро и сразу. Здешний климат этому не благоприятствует, и художники предпочитают пышность и блеск живописи Севера. К тому же фреска — это этрусская традиция. Масляная живопись связывает венецианских живописцев с Нидерландами, с Германией. Венеция — это уже Север, и житель Гента, Амстердама, Кельна или Брюгге чувствует себя здесь менее оторванным от дома, чем этот флорентиец, которого раздражает необходимость ходить по зыбкой земле.
Скульпторы Венеции ничему не могут его научить. Ни Пьетро Ломбардо с сыновьями, ни Антонио Риццо. Эстетически они принадлежат в большей степени готическому духу и форме, нежели Ренессансу. Гробницы, которыми они так прославились, были давно превзойдены флорентийскими мастерами. Микеланджело с пренебрежением от них отворачивается.
Мы теряем здесь время, говорит он своим спутникам, но те так не думают: им нравится очаровательная непринужденность, неупорядоченность венецианской жизни, и они находят ее приятной. Однако Микеланджело осуждает именно эту неупорядоченность. Может быть, потому, что опасается ее. Все здесь возбуждает воображение и чувства. Все чересчур приятно и легко. Так и тянет погрузиться в эту играющую всеми цветами радуги воду, ароматную и соблазнительную, отдаться всем этим сладостным радостям Востока, возбуждающим чувственное любопытство. Человек, все еще оглушенный бурными проповедями Савонаролы, слышит на этих улицах только щебетание хорошеньких девушек да песни, которые во все горло распевают гондольеры, привычно орудуя единственным веслом своих легких суденышек, — песни о любви, разумеется, чисто мирские, более чем свободные и слишком часто простодушные до неприличия.