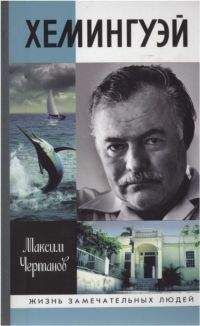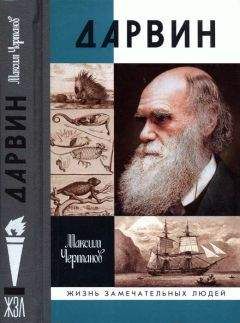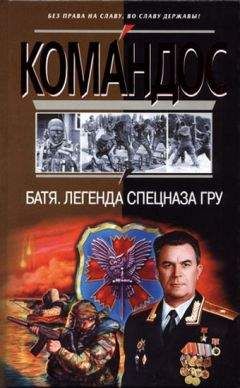Он писал родителям[5]: «Знаете, говорят, что в этой войне нет ничего веселого. Так оно и есть. Я не хочу сказать, что это ад, потому что эти слова порядком заездили с тех пор, как их произнес генерал Шерман. Но было по крайней мере восемь случаев, когда я не отказался бы от ада — потому что это вряд ли было бы хуже тех переделок, в которые я попадал. Например, в траншее во время атаки, когда в то место, где стоишь, попадает мина. Вообще, мина — это не так уж плохо, если это не прямое попадание. Но после прямого попадания ты весь оказываешься забрызган тем, что осталось от твоих приятелей. „Забрызган“ — это буквально». Тут, видимо, до него наконец дошло, что таких вещей родителям писать нельзя, но письма он не порвал, а лишь сделал приписку: «За те шесть дней, что я провел на передовой, в пятидесяти метрах от австрийцев, я приобрел репутацию человека, заговоренного от пули. Эта репутация сама по себе немногого стоит, если ты на самом деле не заговорен. А я, кажется, заговорен».
Сглазил: ночью 8 июля, когда он отвозил продукты на передовую, близ деревни Фоссальта его тяжело ранило. Это — факт; что касается обстоятельств ранения, они до сих пор неясны, поскольку сам раненый, его знакомые и биографы окружили инцидент множеством выдумок. Наиболее доверчивые пишут, будто огонь вызвал сам Эрнест, взяв у солдата винтовку и выстрелив в сторону австрийцев, или что огонь велся по итальянскому снайперу, занимавшему позицию на ничейной земле, а он этого снайпера вытащил. На самом деле неизвестно, чем был вызван огонь (перестрелка велась постоянно); снаряд из австрийского траншейного миномета, начиненный шрапнелью и взрывчатыми веществами, разорвался рядом с Эрнестом. Его ранило в обе ноги и контузило, он пытался помочь другому раненому, но тут его подобрали санитары. Брамбаку он потом сказал, что ничего не помнит: «Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове, точно гирька от глаз куклы, и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало горячо и мокро, и башмаки стали горячие и мокрые внутри. Я понял, что ранен, и наклонился, и положил руку на колено. Колена не было. Моя рука скользнула дальше, и где-то там было колено, вывернутое на сторону. Я вытер руку об рубашку. И откуда-то стал разливаться белый свет, и я посмотрел на свою ногу, и мне стало очень страшно. „Господи, — сказал я, — вызволи меня отсюда!“». Ощущения — единственное, чего нельзя выдумать.
Его доставили в полевой госпиталь, где он провел пять дней. Множественные ранения в обе ноги, особенно сильно было повреждено правое колено — оно уже никогда не будет нормально функционировать. Считается, что в этом полевом госпитале, когда он думал, что не выживет, его (протестанта) крестил католический священник Джузеппе Бианки, — история темная, хотя Бианки — реальное лицо, с которым он впоследствии еще встретится. Потом его перевели в госпиталь Красного Креста в Милане.
«Когда уходишь на войну мальчишкой, тобой владеет великая иллюзия бессмертия. Других убивают, но не тебя. Потом, когда тебя в первый раз тяжело ранят, эта иллюзия пропадает, и ты понимаешь, что это может случиться с тобой». Это писал много позже взрослый человек; тогдашний мальчишка отправил родителям совершенно детское письмо — не то чтобы хвастался, просто не понимал, что матерям такие вещи писать не следует: «Видите ли, они думали, что у меня прострелена грудь — вся рубашка у меня была в крови. Но я заставил их стащить с меня рубашку (белья на мне не было), и оказалось, что мое старое доброе туловище цело и невредимо. Тогда они сказали, что я, возможно, останусь жив. Это меня ужасно обрадовало. Я им сказал по-итальянски, что хотел бы увидеть свои ноги, хотя и боялся на них смотреть. Они сняли мои штаны — и мои конечности оказались на месте, но на что они были похожи! Никто не мог понять, как я мог проползти 150 метров с таким грузом, с простреленными коленями, с пробитой в двух местах правой ступней, — а всего было больше двухсот ран». (Брамбак, чтобы успокоить родителей, написал им, что Эрнест дает честное слово больше на передовую не ходить.)
Впоследствии Хемингуэй неоднократно редактировал обстоятельства своего ранения с той же тщательностью, с какой писал. Окончательная редакция звучала так: был ранен осколками мины, вытащил на себе другого раненого, полз с ним 150 метров до перевязочного пункта, пока полз, еще раз был ранен пулеметной очередью. Приврать он, как мы уже знаем, любил, к тому же ему было 19 лет — в таком возрасте любая рана кажется недостаточно героической.
В госпитале было мало раненых и много медсестер; одна из них, Элис Макдональд (вероятно, прототип подруги героини в романе «Прощай, оружие!»), была полностью занята обслуживанием Эрнеста и прониклась к нему материнскими чувствами; она сопровождала его при переводе в другой госпиталь, Мизерикордия, где ему делали рентген, и осталась там с ним. Из его ног извлекли множество осколков; долго верили с его слов, что ему поставили алюминиевый протез коленной чашечки, но и это оказалось выдумкой. Правая нога оставалась неподвижной в течение шести недель; к концу этого срока он писал родителям, что так привык к боли, что ему было бы странно не чувствовать ее. Легенды сами к нему липли: его сочли (ошибочно) первым американцем, получившим на итальянском фронте серьезное ранение, он был трогателен, выглядел ребенком — неудивительно, что в Италии он оказался центром всеобщего внимания. Газеты писали о нем, король наградил его итальянским военным крестом и серебряной медалью за доблесть, врачи и сестры демонстрировали его посетителям, итальянские и американские офицеры приходили утешать «малыша», и он, по словам Бейкера, был «как король на троне, постоянно окруженный свитой». Узнала о нем и родина: его сняли для хроники, которую Марселина увидела в кинотеатре. Тут ему тоже ставят в вину то, что он формировал «героический имидж», — позже, да, он будет делать это сознательно, но тогда лишь плыл по течению.
От боли он спасался спиртным, которым его снабжали посетители и сестры, и усвоил, что лечиться алкоголем можно и должно. Он наконец избавился от страсти к Мэй Марш, влюбившись в одну из сестер. Она была на восемь лет старше его; в романе «Прощай, оружие!» разница в возрасте между героем и его возлюбленной убрана. Агнес фон Куровски в 1917-м окончила курсы медсестер в Нью-Йорке, поступила на службу в американский экспедиционный корпус в конце июня 1918-го. Красивая девушка, за которой ухаживали американские и итальянские офицеры — один из них, капитан Энрико Серена, называвший Эрнеста «бэби», вероятно, послужил прототипом капитана Ринальди. При этом у нее был в Штатах жених — девушка непостоянная, как она сама о себе говорила. Эрнест был отчаянно влюблен, Агнес вроде бы увлеклась, хотя и утверждала впоследствии, что он ей «просто был симпатичен». Свидетелями их романа были другие сестры и пациент, Генри Уиллард — он в 1989 году с хемингуэеведом Джеймсом Нэйджелом издаст книгу «Хемингуэй в любви и на войне» — но никто не сумел объяснить, какие чувства Агнес испытывала к Эрнесту. Возможно, она сама этого не понимала. Мальчишке 19 лет, красавец, великолепно сложен, нежная кожа, выразительные темные глаза, обезоруживающая детская улыбка; героический, несчастный, но неунывающий, ласковый, остроумный, с прекрасно подвешенным языком: в эту ловушку попадается много взрослых женщин. Агнес была ночной сестрой весь август и начало сентября и проводила с Эрнестом по нескольку часов ежедневно; в конце лета Эрнест писал матери, что «снова влюблен», но женитьба в его планы не входит.