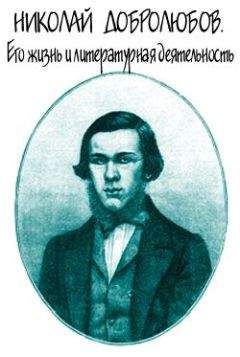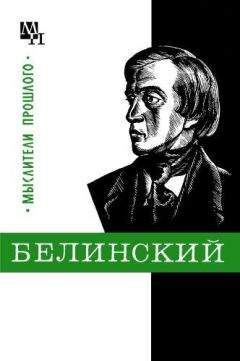Ниже в том же дневнике мы читаем:
«Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо. Беда, если я встречу теперь хорошенькую девушку, с которой близко сойдусь, – влюблюсь непременно и сойду с ума на некоторое время… И так вот она начинается, жизнь-то… Вот время для разгула власти страстей… А я, дурачок, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что уже я „пережил свои желанья“ и „разлюбил свои мечты…“ Я думал, что выйду на поприще общественной деятельности чем-то вроде Катона бесстрастного или Зенона-стоика. Но, верно, жизнь возьмет свое…»
В воспоминаниях товарищей еще рельефнее выражается увлечение Добролюбова общественными вопросами. Так, по словам Радонежского, однажды, когда в минуту «певучего» настроения он запел в присутствии Добролюбова какой-то романс, последний воскликнул:
– Радонежский! Перестанешь ли ты сердечные романсы распевать? Ужели ты не имеешь в запасе для пения что-нибудь получше? На вот, пой!.. – И Добролюбов сунул товарищу стихотворения Некрасова. – Оставь, пожалуйста, любовь и цветы, пой «жизнь» – или плачь, это одно и то же, – ну, свисти!..
«Песня, – прибавляет к этому Радонежский, – иногда петая мною – „Не слышно шуму городского“, – особенно нравилась Добролюбову, и он, вообще не любивший пения, очень часто просил меня ее петь и всегда слушал с особенным вниманием.
Покойный Николай Александрович, – говорит далее Радонежский, – не любил мишуры нигде и ни в чем, не любил рисоваться и всегда ратовал против нарядного чересчур мундира, особенно ловкого поклона, заискивающего разговора, подобострастного отношения к кому бы то ни было… На танцклассе, куда он являлся в четыре года, может быть, пять раз, смешил танцмейстера своей неловкостью и мудростей кадрили французской не постиг…
Во время коронации студентам института прислали две ложи даровые в Александрийском театре. Бросили жребий, кому из студентов ехать, Добролюбову и мне достали также места. Давали «Парашу-Сибирячку» и еще что-то. В одной из них играл покойный Максимов. Во время действия за некоторые монологи вызывали Максимова после того, как он кончил свое явление. Максимов имел привычку выходить раскланиваться и, разумеется, своим выходом нарушал художественную иллюзию… В то время, когда все хлопали являвшемуся на вызов Максимову, хотя по ходу действия явления его не следовало, Добролюбов, вставая с своего места и высунувшись из ложи, кричал громко: «Невежа, лакей!» – шикал и свистал. (То же было с Добролюбовым, когда Максимов в другой раз при нем играл роль Чацкого.) И всегда потом, если заходила речь об Александрийском театре, он ругал Максимова…
Как-то вечером, часов в десять после ужина, сидели мы в своей камере за столом: Добролюбов, я и еще три студента. Добролюбов читал что-то, сдвинувши на лоб очки. Является от знакомых один студент, некто N, считавший себя аристократом между нами, голышами, как помещик. N стал рассказывать одному студенту новость: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян (это было в начале 1857 года). Передавая этот слух, N выразил оттенок неудовольствия как помещик… Добролюбов, не переставая читать, доселе довольно покойно слушал рассказ N. Но когда N сказал, что подобная реформа еще недостаточно современна для России и что интерес его личный, интерес помещичий через это пострадает, Добролюбов побледнел, вскочил со своего места и неистовым голосом, какого я никогда не слыхал от него, умевшего владеть собою, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Бон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!..» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю!..»
Сам Добролюбов передает в своем дневнике этот эпизод несколько иначе:
«В „Сенатских ведомостях“, – пишет он, – напечатан был указ, в котором говорилось что-то о крепостных. Весть об этом распространилась по городу, и извозчики, дворники, мастеровые и т. п. толпами бросились в сенатскую лавку – покупать себе вольные… Произошла давка, шум, смятение. Указы перестали продавать. К. ходил вчера в сенатскую лавку. Чиновник ответил на его вопрос об указе касательно крепостных: нет и не было… Но тут же и в те минуты, которые К. пробыл в лавке и возле, человек 15 разного звания приходили спрашивать об этом указе, и всем тот же ответ. Говорят, что многие извозчики оставили своих хозяев, рассчитав, что теперь им оброку платить не нужно, и, следовательно, от себя работать могут, что гораздо выгоднее. С. встретил третьего дня вечером двух пьяных мужиков, из которых один говорил, что мы, дескать, вольные с нового года, а другой ему возразил: врешь, с первого числа. Это меня возбудило и настроило как-то напряженно. Вечером заговорили опять об этом указе, и N, думая сострить, самодовольно заметил, что для студентов эта новость не может быть интересной, потому что у них нет крестьян. N стал, по обычаю, очень тупо острить на этот счет, и, видя, что дело, святое для меня, так пошло трактуется этими господами, я горячо заметил N неприличие его выходки. Он хотел что-то отвечать и, по обычаю, заикнулся, и, стоя предо мной, только производил неприятное трещание горлом. Я сказал, что его острота обидна для всех, имеющих несчастье считать его своим товарищем, и что между нами много есть людей, которым интересы русского народа ближе к сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свинье. Выговоривши это слово, я уже почувствовал, что сделал глупость, обративши внимание на слова пошлого мальчишки; но начало было сделано. N сказал мне сам какую-то грубость, и я продолжал ругаться с ним, пока не заставил его замолчать грозным движением, которое можно было растолковать как намерение прибить N. Движение это было уже не искренно, а просто рассчитано. Через пять минут я совсем эту историю позабыл, увлекшись течением мыслей – в одной из статей первой книжки «Современника», которую стал читать, чтобы успокоиться…»
К последним годам институтского курса относится и начало литературной деятельности Добролюбова. От стихов, которые он начал писать, как мы видели, уже на семинарской скамье, он перешел к прозе. В 1855 году выпустил 19 номеров рукописного журнала «Слухи» и тогда же принялся за опыты в беллетристическом роде. Вот что сообщает об одном из этих опытов Радонежский:
«Если не ошибаюсь, в феврале 1855 года я отправился в лазарет. В лазарете я нашел Добролюбова здоровым. Он по вечерам там что-то писал и записывался иногда далеко за полночь. Я полюбопытствовал спросить: „Что ты пишешь, Николай?…“ – „А вот слушай“. И он мне прочел отрывок из предполагаемого романа. Отрывок этот составлял первые главы. В них, помню, дело шло о воспитании двух мальчиков. Один из них был аристократенок – маменькин сынок, другой – приемыш, соединенный брат, служивший компаньоном барчонку… Мне особенно памятны те страницы, где автор говорил о деспотических отношениях первого к последнему, – и сцена, где мальчик, приемыш-сирота, однажды отдал встреченной им на улице девушке-нищей, босой, с окровавленными ногами, свои сапоги, за что барыня-мать больно высекла своего приемного сына. Я долго слушал этот рассказ, полный горячего сочувствия к сироте и читанный Добролюбовым с большим одушевлением… На глазах у меня навернулись слезы. Потом эти мальчики были отданы в одно учебное заведение, вместе учились, кончили курс удачно. Барчонок жил и учился с протекцией… Сирота сам собой, без помощи, всегда в борьбе с нуждой и людьми, под влиянием чего характер последнего выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтение, помню, кончено было (тут же был и конец рукописи будущего большого романа) на том месте, когда эти два героя начинают служебную карьеру, как и следовало ожидать, различными путями. Маменькин сынок поступает под крыло какого-то директора департамента, а сирота сам где-то находит для себя место. Заглавия этого романа мне тогда Добролюбов не сказал, вероятно, и сам еще не знал, как его назвать; но заметил мне, что пишется легко, что вовсе не такой труд, как прежде думал, писать повести. Кажется, эти повести и романы покойный Добролюбов так и не кончил.